БИ-5
Глава 55
Быть человеком
Быть человеком
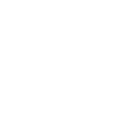
Прекрасный, сонный, полностью восстановленный, убийственно тихий и наглухо запертый кабинет Директора встречает Гарри, едва ноги мальчика касаются пола, и голова статуи волшебника с гулким стуком падает на камни.
Тишина невыносима. Гарри тяжело дышит. Выхода нет никакого. Паника, боль, пустота и мысли. Гарри знает, что это его вина.
- И что привело тебя сюда в ранний утренний час? – доносится до Гарри хитрый голос проснувшегося Финеаса Найджелуса. – Этот кабинет, предполагается, должен быть закрыт для всех, кроме законного Директора…
Финеас, издеваясь, предполагает, что Гарри здесь, чтобы попросить его передать очередное сообщение для Сири.
Гарри молчит. Гарри пытается выйти, но дверь заперта. Что-то в его груди разрастается и душит.
- Я надеюсь, это значит, – произносит портрет еще одного волшебника, – что Дамблдор скоро вернется к нам?
Гарри кивает. Говорить у него не получается – что-то давит на легкие, горло и сердце, что-то чудовищно ворочается внутри. Он дергает дверную ручку, но безуспешно.
- О, хорошо, – говорит волшебник. – Без него было очень скучно, в самом деле скучно. – Он ласково глядит на Гарри. – Дамблдор ценит вас очень высоко, как, уверен, вы знаете. О да. Относится к вам с большим уважением.
Гарри не смотрит ни на кого. Ему невыносимо. Больше всего на свете он хочет стать кем-то другим – кем угодно, быть, где угодно, только бы не чувствовать этой невыносимой вины, этого извивающегося, горящего внутри стыда…
А потом появляется Дамблдор. Он мягко благодарит приветствующие его портреты, он не смотрит на Гарри. Он нежно кладет птенца-Фоукса в золотую клетку, бережно приглаживает его пушок, замирает.
Ему необходимо было это действие. Его самого разрывает на кусочки, ему нужно было хоть что-то, что могло бы служить опорой, точкой, от которой он сумел бы оттолкнуться – в эту ночь, в это раннее утро, ему нужно быть сильным еще чуть-чуть.
- Что ж, Гарри, – Директор поворачивается к мальчику, – тебе будет приятно услышать, что никто из твоих однокурсников не пострадал серьезно и не понесет продолжительный ущерб после событий ночи.
Он выбирает сказать это первым. Чтобы Гарри стало немного легче, чтобы ему самому стало немного легче – ведь это значит для него не меньше, чем для Гарри.
Гарри не может ничего ответить. Он не может смотреть в его глаза – впервые за долгое время обращенные к нему, Гарри.
- Мадам Помфри всех лечит. Нимфадоре Тонкс может понадобиться провести немного времени в Мунго, но, кажется, она полностью придет в себя.
Как будто Дамблдор говорит о чем-то ужасно неправильном – Гарри чувствует, будто все это – его вина – и он не понимает, почему Дамблдор говорит с такой добротой в голосе, если эта жуткая ночь была результатом лишь его, Гарри, глупости, его сводящей с ума уверенности в своей правоте, привычке играть в героя… Как будто раны других, о которых сообщает Директор, на самом деле были его, Гарри, ранами – от них у мальчика болит все…
- Я знаю, как ты себя чувствуешь, Гарри, – очень тихо говорит Директор.
- Нет, не знаете, – неожиданно крайне твердо произносит Гарри.
Финеас принимается язвить – Дамблдор жестко его прерывает. Гарри отворачивается и упрямо глядит в окно.
- Нет ничего постыдного в том, что ты чувствуешь, Гарри, – произносит Дамблдор. – Напротив… то, что ты можешь ощущать такую боль – твоя величайшая сила.
Слова Директора никак не резонируют в душе Гарри. Они кажутся ему невероятно пустыми, бесполезными и глупыми. Гарри вспыхивает от ярости – единственное чувство, на выражение которого он пока способен.
- Моя величайшая сила, да? – его голос дрожит. – Вы вообще не… вы не знаете…
- Чего я не знаю? – спокойно спрашивает Дамблдор («Жалкое человеческое тщеславие, – сказал граф Монте-Кристо. – Каждый считает, что он несчастнее, чем другой несчастный, который плачет и стонет рядом с ним»).
Чего же он не знает такого, о чем знает Гарри? Может быть, этой удушающей боли, этого яда, сжирающего всю глотку, этого огромного, черного кокона, из которого не выбраться, не спастись, этого крика, застывшего в горле? Чего же он не знает-то? Как это больно – хотеть разрыдаться в голос, но понимать, что ничего не получится? Этой тоски от неспособности даже плакать? Этой полной и беспросветной пустоты, дыры в груди? Этой надежды, что, может быть, получится спрятаться, раствориться, исчезнуть навсегда и со всеми своими чувствами? Чего же он не знает?
- Я не хочу говорить о своих чувствах, ясно? – Гарри круто оборачивается, трясясь от ярости.
Директор знает и боль больше той, что в Гарри. Боль от того, что необходимо быть сильным, невероятно жестоким.
- Гарри, страдания такой силы доказывают, что ты все еще остаешься человеком! – говорит он. – Эта боль – часть того, чтобы быть человеком –
- Тогда я не хочу быть человеком! – ревет Гарри, хватает со столика серебряный приборчик Дамблдора и со всей силы швыряет его через кабинет. – Мне все равно! – кричит он возмутившимся было портретам. – У меня было достаточно, я видел достаточно, я хочу выйти, я хочу, чтобы это закончилось, мне все равно теперь –
Вслед за приборчиком летит и столик, который разбивается вдребезги. Солнце за окном начинает медленно выходить из-за горизонта.
- Тебе не все равно, – лицо Дамблдора спокойно, почти бесстрастно. – Тебе настолько не все равно, что ты чувствуешь, будто истечешь кровью до смерти от этой боли.
Нет, Дамблдор Гарри совершенно не понимает, очевидно, так.
- Я – не --! – Гарри хочет разбить Директора. Разбить его вдребезги за это его спокойное лицо, за эти слова, трясти его, рвать – чтобы он почувствовал хоть часть того ужаса, что испытывает Гарри.
- О да, это так, – еще спокойнее произносит Дамблдор. – Ты потерял свою мать, своего отца и ближайшего человека к родителям, какой у тебя когда-либо был. Конечно, тебе не все равно.
- Вы не знаете, как я чувствую себя! – орет Гарри. – Вы – стоите тут – вы –
Дамблдор делает очень полезную вещь – он жестко загоняет Гарри обратно в рамки: ты не должен потерять эту боль. Это должно отозваться в тебе болью. Должно.
Слово «страдание» происходит от слова «страда». Труд. Если человек не страдает, он перестает быть человеком. Конечно, быть человеком – это большая ответственность, и не всякому ее захочется, но Директор не оставляет Гарри выбора, он дожимает жестко и твердо, он должен прорвать защиту мальчика, должен дать ему выплеснуть все это, он знает, что станет легче, пусть даже немного – но станет. Кроме этого… ложь недопустима. Дамблдор просто не может позволить Гарри прибегнуть к худшему – лгать самому себе. Чувства надо называть. Тогда они станут четче, меньше.
А еще он, если можно употребить это слово, счастлив.
«Страдания такой силы доказывают, что ты все еще остаешься человеком!» Все еще. Несмотря на всю ту грязь, что оставил в Гарри Реддл. Сущности – окончательно – разделены. Истинно говорят: в горе счастье ищи.
- Выпустите меня, – приказывает Гарри, не переставая дрожать – он бросается к двери, не в силах выносить ни Дамблдора, ни этот его кабинет, но она остается запертой.
- Нет, – просто отвечает Директор. Он, конечно, прекрасно помнит, как некоторые мальчики умеют приказывать. Но состязание воль он не проиграет – просто не может себе позволить, слишком многое стоит на кону – и душевное и физическое здоровье Гарри, и будущее мира, и Большая Игра…
- Выпустите меня.
- Нет, – повторяет Дамблдор. Хорошо, что Гарри буйствует сейчас. Плохо было бы, если бы он молчал.
- Если вы не --, – захлебывается Гарри, – если будете держать здесь – если вы не выпустите –
- Пожалуйста, продолжай разрушать мое имущество, – безмятежно и просто говорит Директор. – Должен признаться, у меня его слишком много.
Нет, ну Дамблдор был бы не Дамблдором, если бы не пошутил даже в этой ситуации. Будто не существует Репаро.
Он занимает законное место за своим столом, продолжая наблюдать за Гарри.
- Выпустите меня, – холодно повторяет Гарри.
- Нет, до тех пор, пока ты не выслушаешь меня.
- Вы --, – заходится мальчик, – вы действительно думаете, я хочу – вы думаете, мне – мне все равно, что вы хотите сказать! Я ничего не хочу от вас слышать!
- Тебе придется, – непреклонно произносит Директор.
И далее начинается самое интересное.
- Потому что ты даже близко не так зол на меня, как должен был бы. Если ты хочешь напасть на меня, как, я знаю, ты почти готов сделать, мне бы хотелось основательно заслужить это. – «Нападай, мальчик мой, это ничего страшного. Только мисс Грейнджер не зови, пожалуйста. Вот ее и вправду стоит бояться, судя по всему».
Оборона прорвана. Гарри в замешательстве («О чем вы --?»).
На заметку: если бы Гарри все же набросился на него, Директор не стал бы защищаться.
Он приносит себя в жертву боли мальчика, вызывает на себя весь огонь его ярости, чтобы Гарри стало легче. Но еще и потому, что считает, что ему от этого тоже станет легче. Или рассчитывает.
Признаться вслух в ошибках, принести извинения – на это нужна невероятная смелость, которая, как правило, смывает часть – самую крохотную – разрывающей боли. Он пытается найти себе выход, он не хочет быть собой. Он знает, что должен.
Но еще: он бы никогда не стал открыто брать вину на себя, если бы знал, что Гарри его не поймет. Поэтому он исправляется:
- Моя вина в том, что Сириус погиб. Или, я должен сказать, почти полностью моя вина – я не буду столь высокомерен, чтобы требовать ответственности за всю.
Дамблдор не винит Гарри, потому что Гарри его ребенок. Или просто – ребенок, которому выпало очень многое, который «видел достаточно», и он полагает, что глупо будет требовать от мальчика отчета за все, с чем тот не сумел справиться. Может быть, он и прав – своих детей я бы тоже не посмела обвинить. Но вот Гарри сам себя… с собой сложнее. С собой всегда сложнее.
Дамблдор же… он считает, что ответственен лишь он – и сам Сири.
- Сириус был храбрым, умным и энергичным человеком, а такие люди не всегда довольствуются тем, чтобы сидеть дома в укрытии, когда они считают, что другие в опасности.
Конечно, он прав. Конечно. Я много писала об этом. Тут… понимаете ли, Сири был… конечно, таким, каким его описывает Директор, но надо помнить, что он подбирает слова специально для ушей Гарри. Эти качества – смелость, ум, энергичность – Гарри ведь ценит их особенно сильно – и они прекрасны, кто спорит? – только Сири, как личность глубокая, прекрасная, сложная, обладал и целым букетом других, которые и привели его к такому – глупому, дурацкому – концу, и о которых Гарри вовсе не обязательно слышать. Он не был плохим из-за них или каким-то ущербным, он был замечательным, но… понимаете, Анна Каренина… она должна была умереть. Тоже. В ее истории – в истории, где героиня – она – не могло быть иного конца.
Я не буду спорить с утверждением, что ценность человеческой жизни проявляется лишь тогда, когда ее есть за что отдать, которому, похоже, всегда верил Сири, или что риски, которые есть в жизни, отражают величие жизни, которому он, похоже, тоже верил. Не буду спрашивать, стоят ли эти риски всего остального.
Я даже не стану говорить, стану только глубоко скорбеть, что в последнем бою Сириус от Беллатрисы больше отбивается, чем нападает, да и швыряют они друг в друга не Смертоносными проклятьями – что ни говори, а семья – это семья, поэтому только красные лучи, только красные – я не стану окунаться во все эти нюансы, потому что… потому что, черт возьми, до чего же легко рассуждать о склонности человека к саморазрушению, до чего же просто столкнуть его в небытие, а потом отойти в сторонку, пожать плечами и согласиться, что это был неизбежный исход беспорядочной, катастрофической жизни!
Есть такие границы, за которые переступать нельзя хотя бы из приличия. Дамблдор себе этого не позволяет – так разве я в праве?
Лучше обратим внимание на это Директорское «когда они считают» – оно меня уже очень давно заинтересовало. Потому что звучит так, будто опасности не было.
Что ж, по сути, ее и впрямь не было – Том знал, что Гарри его крестраж. Но только Дамблдор знает, что Том не может убить Гарри – к тому же, судя по всему, уже в декабре 1995, после операции «Змея», Том дает установку Пожирателям ни в коем случае Гарри не трогать – именно потому, что догадывается о том, что Гарри – его крестраж. Отдать право убить часть себя кому-нибудь из своих слуг? Ну уж нет.
В Финале Игры-6 Снейп крикнет Пожирателям, что Гарри «принадлежит Темному Лорду» – так вот, я полагаю, что Темнейший постановило так именно в декабре 1995 (и именно при помощи активно подсказывавшего в сторону крестражей Снейпа). И Дамблдор об этом знает. Все возможные для Гарри опасности сужаются до одного лишь Тома (ну, еще бладжеров в квиддиче, разъяренных кентавров, злого Снейпа и всякого такого – но это уже детали). И это действительно не так уж страшно.
- Как бы то ни было, – продолжает Дамблдор, – ты бы никогда, ни на секунду не поверил, что была какая-либо необходимость, чтобы ты отправился в Отдел Тайн этой ночью.
Именно эта фраза в свое время окончательно убедила меня в том, что Игра оказалась перевертышем. Именно она помогла выпутаться, когда я заканчивала предварительную работу. Дамблдор никогда не лжет – и здесь он говорит предельно прямо. Он никогда не ставил перед собой цель привести Гарри в Министерство.
- Если бы я был открыт с тобой, Гарри, как должен был быть, ты бы долгое время назад уже знал, – примерно как раз с Рождества, – что Волан-де-Морт попытается заманить тебя в Отдел Тайн, и тебя бы никогда не заставили пойти туда обманом, как этой ночью. И Сириусу бы не пришлось следовать за тобой. Эта вина лежит на мне – и только на мне. Пожалуйста, присядь, – просит Дамблдор через паузу.
Гарри колеблется, но занимает кресло напротив Директора.
- Должен ли я понимать это так, – медленно произносит Финеас, – что мой праправнук, последний из Блэков, мертв?
- Да, Финеас, – отвечает Дамблдор.
- Я в это не верю, – быстро говорит Финеас и исчезает со своего портрета.
При мысли, что он, вероятно, зовет Сири, переходя из картины в картину на Гриммо, Гарри становится дурно. Не знаю, что доставит Финеасу больше боли – смерть Сириуса или смерть последнего из рода – но это определенно будет она, боль.
- Гарри, я должен тебе объяснение, – негромко продолжает Дамблдор. – Объяснение ошибок старого человека. Потому что сейчас я вижу, что все, что я сделал или не сделал по отношению к тебе, носит все отличительные черты ошибок возраста. Молодым не понять, как думают и чувствуют старики. Но старики виноваты, если они забывают, что значит быть молодым… а я, кажется, забыл за последнее время…
Директор считает, что совершил целый ряд ошибок, и полагает их ошибками старого человека. Я бы применила другой эпитет. Возможно, «уставшего» подошло бы лучше – уставшего «за последнее время».
Он начинает издалека – о шраме Гарри, об их связи с Реддлом, которая крепла год от года («…потому что сразу после того, как ты присоединился к магическому миру, стало очевидно, что я был прав, и что твой шрам предупреждает тебя…» – ну да; вспыхнувший шрам Гарри при взгляде на затылок Квиррелла на пиру по случаю начала первого учебного года Гарри в Хогвартсе…), о том, что Реддл догадался об этой связи после операции «Змея» (скрывать сие от него 4,5 года – это, знаете ли, уметь надо). Обо всем этом я писала, и очень подробно, обо всем этом Гарри более-менее (скорее менее, чем более) уже знает.
- Да, Снейп сказал мне, – бормочет он.
- Профессор Снейп, Гарри, – тихо поправляет Дамблдор. – Но разве ты не спрашивал себя, почему не я объяснял тебе это? Почему не я учил тебя Окклюменции? Почему я даже не взглянул на тебя в течение месяцев?
Гарри пялится на Директора. Тот выглядит уставшим и грустным.
- Да, – невнятно произносит подросток, – да, спрашивал.
- Видишь ли, – продолжает Дамблдор, – я полагал, что в скором времени Волан-де-Морт предпримет попытку прорваться в твой разум <…> я боялся того, что он может использовать тебя, возможности, что он может попытаться завладеть тобой <…>. – Но тут же: – Как он продемонстрировал сегодня ночью, цель Волан-де-Морта завладеть тобой была не в моем разрушении. А в твоем. Он надеялся, когда он на короткое время завладел тобой не так давно, что я пожертвую тобой в надежде убить его. Так что, видишь, я пытался, дистанцируясь от тебя, защитить тебя, Гарри. Ошибка старого человека…
Пытаясь лишний раз не провоцировать Тома, Дамблдор отстранился от Гарри – Директор боялся способов, к каким Том может прибегнуть, чтобы извратиться над сознанием Гарри, чтобы шпионить за ним, Дамблдором. Надо полагать, чего-то такого, что случилось с Джинни.
Но в чем же ошибка, если время шло, а провалов в памяти или изменении в поведении, подобных тем, что были у Джинни, когда ею владел Том, у Гарри не появлялось, и Дамблдор все-таки подозревал (ну не может быть по-другому), что Том может захотеть использовать Гарри, чтобы вынудить Директора убить мальчика в попытке добраться до Реддла (не может быть, чтобы не подозревал, ибо уж слишком сильно от этой комбинации Тома разит подсказками Снейпа)?
Да в том, что, наверное, надо было не бегать от Гарри месяцами, жалея его нежные чувства, а посмотреть мальчику в глаза один разок, но очень основательно – так, чтобы Реддл воодушевился, залез в Гарри поглубже и самоиспепелился бы к чертовой матери, как, собственно, и произошло в Министерстве, сколько Дамблдор мальчика ни берег. И не было бы никакой проблемы, как минимум 6 месяцев Директор бы мог уже радостно рассказывать Гарри о крестражах, прогуливаться по полям и держаться за ручки, ибо Том бы, поскорее наложив выразительную кучку, закрылся бы много раньше со своей стороны. И не было бы никакого Министерства, никаких пострадавших…
Что получаем вместо этого? Полгода крестраж-лекций упущено. Доверие Гарри пошатнулось. Сири нет. Так еще и мальчика все-таки не удалось уберечь от того, чтобы Реддл не осквернил его тело своим грязным духом. Гарри просто слишком дорог Директору, позже он сам это признает. Помнится, Фоер очень хорошо высказался по схожему поводу: «Для счастья у нас было слишком много любви».
Дамблдор говорит о сообщении Сири в ночь операции «Змея» – что Гарри почувствовал, как в нем просыпается Реддл, он говорит о том, что Реддл в ту ночь понял, что может использовать Гарри, говорит о мерах, которые принял по этому поводу – об организации уроков Окклюменции.
Здесь он прерывается ненадолго – тема Окклюменции со Снейпом, его, Дамблдора, еще одной ошибки в ходе этих уроков, без сомнения, требует вновь собраться с силами – и продолжает: об Отделе Тайн, который снился Гарри, о своем плане «наконец раскрыть» Тома, о защите пророчеств, о Руквуде.
В какой-то другой жизни Гарри бы, скорее всего, сгорал от любопытства услышать все это. Но сейчас для него все теряет смысл – неважно, абсолютно неважно в сравнении с этими чудовищными спазмами в груди… Гарри важно объясниться:
- Я не практиковался, не заморачивался, я мог прекратить видеть все те сны <…>. Я пытался проверить, правда ли он схватил Сириуса, я пошел в кабинет Амбридж, – и никакого вам ответного «профессора Амбридж, Гарри», – я разговаривал с Кикимером в камине, и он сказал, что Сириуса нет, он сказал, что он ушел!
- Кикимер солгал, – спокойно поясняет Дамблдор. – Ты не его хозяин, – «Пока; но потом я кое-что сделаю, и вы оба упадете», – он мог солгать тебе и даже не наказывать себя. Кикимер хотел, чтобы ты отправился в Министерство Магии.
Дамблдор рассказывает Гарри, что сделал Кикимер, и Гарри становится очень трудно дышать.
- И Кикимер сказал это вам… и смеялся? – выдавливает он из себя.
Директор действительно как-то по-особому отмечает это: «…когда я прибыл на площадь Гриммо вскоре после того, как они все покинули дом, эльф рассказал мне – смеясь с головы до пят – куда ушел Сириус».
Я долго думала, зачем Директору понадобилось выделять это – ведь это еще больше настроит Гарри против Кикимера, чего ни в коем случае нельзя допустить. Не говоря уже о том, что сделает мальчику еще больнее.
А потом поняла. Директор не смог удержаться. Именно эта деталь вызывала в нем самую острую боль, как и в Гарри, именно смех Кикимера явился апогеем, чертой ночи, после которой Директор – белый от ярости – больше не мог сдержаться. Дамблдор произнес это вслух просто потому, что надеялся, что после этого станет легче. Во второй раз он этого не допускает:
- Он не хотел мне говорить, – «Мальчик мой, забыли, что он смеялся», – но я сам достаточно опытный Лигилимент, чтобы понимать, когда мне лгут, и я – убедил его – рассказать мне всю историю, прежде чем отправился в Отдел Тайн.
Ну да, Директор же двинуться никуда не мог без всей-то истории. Остальные подождут, усугубляй, Кикимер, деталями. Во что был одет Сириус, когда убегал из дома? Это сейчас очень важно…
Замечу: Дамблдор имеет ввиду то, что говорит. Кикимер поведал ему всю историю – какую-то такую настолько важную, что Дамблдор предпочел ее услышать сразу же, пока эльф никуда не сбежал, пока в Министерстве получали травмы детишки и Орден, которым неплохо было бы помочь.
В самом начале объяснения линии с Кикимером во всей Игре Дамблдор произносит, что эльф улизнул из дома на Рождество, поймав Сириуса на слове («Убирайся! Вон!») и «отправился к единственному члену семьи Блэк, к которому у него осталось хоть какое-то уважение» – Нарциссе.
Это вот прям Кикимер ему так и сообщил: «Я отправился к единственному члену семьи…»? Сомневаюсь.
С помощью Легилименции Дамблдор узнает не только правду о событиях этого вечера и последних шести месяцев – он понимает и мотивы Кикимера, и его отношение ко всей семье, и его отношение конкретно к Тому – ибо понять, почему же Кикимер так отчаянно стремится к Реддлу, так упорно игнорирует, что он плохой, конечно, не помешало бы.
И Дамблдор понимает – а точнее, конкретно видит – то, что полтора года спустя Гарри сумеет объяснить Гермиона: Кикимер не имел ничего против Тома, ибо помнил, что его обожаемые Вальбурга и Регулус были на его стороне. И вот, когда в сознании Кикимера мелькает Регулус, Дамблдор решительно откладывает посещение Отдела Тайн, ибо видит такое, чего никак не ожидал увидеть – дела пещерные; медальон Слизерина, подмену последнего крестража, который он, Дамблдор, искал; смерть Регулуса.
И если предположить, что я права, и Дамблдор действительно увидел все это в сознании Кикимера, становится сразу понятно, почему Дамблдор так превосходно ориентируется в Финале Игры-6. Не мог же он сам быть в пещере с Регулусом – я человек нормальный и понимаю, что есть вещи возможные, а есть невозможные; будь то правдой, то не Регулус бы водичку хлестал, а его преподаватель… Но откуда-то Дамблдор в Финале Игры-6 будет все знать. Почему бы не от Кикимера, почему бы не с этого самого вечера, когда они столь плодотворно поговорили?
С этой точки зрения еще больше объяснимы возражения Директора Гарри, когда мальчик начинает говорить об эльфе с ненавистью («И Гермиона говорила нам быть милыми с ним –» – «Она была совершенно права, Гарри…» – «Кикимер лгун – подлый – он заслужил –»):
- Кикимер, – отвечает Дамблдор, – такой, каким его сделали волшебники, Гарри. Да, его нужно пожалеть. Его существование было столь же несчастным, сколь и существование твоего друга Добби, – «…о котором я подозрительно много знаю, но ты не обращай на это внимания, мальчик мой». – Его заставили выполнять приказы Сириуса, потому что Сириус был последним в семье, где он был слугой, но он не чувствовал к нему истинной преданности. И, каковы бы ни были ошибки Кикимера, следует признать, что Сириус не сделал ничего, чтобы облегчить Кикимеру –
- Не говорите так о Сириусе! – кричит Гарри.
Но Дамблдор прав. Он прав во всем.
История Кикимера – это, без преувеличения и абсолютно серьезно, настоящая трагедия. Кикимер – невероятно несчастное создание, и тем он несчастнее, чем меньше это понимает. После всех тех горестей, что он пережил, не удивительно, что отношение к нему Сири сделало эльфа еще более несчастным.
В отчаянии он бежит от нелюбимого хозяина, предателя матери, крови, обижающего его, который никак не может общаться с нормальными людьми, следовательно, и Орден – уголовники; в отчаянии Кикимер бежит к единственной защите, которую видит – к Нарциссе, рядом с которой Люциус вовсе даже не стремится громко оглашать Кикимеру, по чьим приказам они действуют и ради каких целей.
Дамблдор отмечает это особо – эльф не входил в контакт с Томом, он пытался стать нужным и любимым в другой части семьи, с которой был связан нерушимо и до конца жизни. Директор осознавал, что такое возможно, с самого начала: «Я предупредил Сириуса <…>, что к Кикимеру нужно относиться с добротой и уважением. Я также сказал ему, что Кикимер может быть опасен для нас», – но Сириус не внял словам Директора.
Кикимер действительно таков, каким его сделали волшебники. Нельзя ругать ребенка за то, что он избивает кота, если ты сам бьешь жену. Нельзя ругать Кикимера (тем более – его винить) за то, что ему захотелось тепла. Он не любил Сириуса, но вынужден был ему подчиняться, терпеть, когда Сири срывал на нем всю накопившуюся злость. Естественно, Кикимер и сам стал озлобленным и захотел мстить Сири, в котором видел причины не только своих страданий, но и страданий обожаемой Вальбурги.
А в том, что он действительно любил хозяйку, нет ничего необычного. Да, ту самую, которая дала ему имя, очень созвучное со словом «существо», предельно ясно высказывая свое к нему отношение – но мне странно непонимание ее точки зрения на домовиков. И точки зрения Сириуса на них же.
Отрубленными головами лестницу, конечно, украшать нехорошо, но только при условии, что головы расцениваются как принадлежащие разумным существам. Английская аристократия, отмечу вслед за Анной, все же немного продвинулась по сравнению с охотниками за черепами. У них широко распространена привычка украшать дом (и лестницу тоже) головами животных – охотничьими трофеями. Пратчетт, помнится, издевался над этим крайне остроумно (там, где Ваймс к Сибилле Овнец в гости приходит и заценивает ситуацию следующим образом: судя по количеству голов животных на стенах, «Овнецы извели больше видов, чем эпоха Великого Оледенения»).
Вальбурга со своей точки зрения ведет себя абсолютно нормально, логично и внутренне непротиворечиво – просто для нее эльфы вот настолько не люди, а животные.
А для Сириуса они – люди. Да, он на дух не переваривает Кикимера, но как человека, а не как животное. И шпыняет, как человека. «Сириус не ненавидел Кикимера, – чуть позже пояснит Дамблдор продолжающему бушевать Гарри. – Он относился к нему, как к слуге, недостойному большого интереса. Равнодушие и пренебрежение наносят гораздо больше вреда, чем открытая неприязнь… фонтан, который мы сегодня разрушили, лгал. Мы, волшебники, плохо обращались и обижали наших ближних слишком долго, и теперь мы пожинаем наши плоды <…>. Сириус не был жестоким человеком, он был добр к эльфам вообще. Он не любил Кикимера, потому что Кикимер был живым напоминанием о доме, который Сириус ненавидел».
Ах, поберегите нежные детские уши – будто дом сам не был о себе напоминанием… Но Гарри и без того не в духе – не время сейчас углубляться во все сложности семейных взаимоотношений Блэков; пусть будет «дом».
Безразличие – это был максимум добрых чувств к данному конкретному эльфу, которые Сири мог испытывать. И то – только в очень хорошем настроении («Где этот дурацкий эльф?.. Неважно…»). Это – вторая точка зрения на ситуацию, тоже логичная сама в себе и непротиворечивая.
Но еще сложнее взглянуть на ситуацию глазами самого Кикимера.
Вот он живет себе, воспитанный в духе того, что он не человек, а вещь (они все так воспитаны. Добби сумел до некоторой степени из этого выбраться, а Винки – нет. Не всем дано. Добби вообще выдающийся эльф, отличающийся необыкновенной смелостью и способный пойти против мнения своей среды, чем он мне всегда и нравился. А что смешной – так все смешные, даже Дамблдор, когда запивает дольки валерианкой у перископа и повторяет себе, что ничего не должен делать). Кикимеру хорошо и удобно в рамках своей вещности. Он будет всю жизнь при деле, свято предан своим любимым хозяевам, а потом ему окажут великую честь – его головой украсят Хозяйскую Лестницу. Ну чем не рай и воздаяние?
И тут происходит потрясение основ. Вместо нормальной Вальбурги и прочих умных Блэков нарисовывается вырожденец Сириус и относится к Кикимеру, как к человеку. То есть требует с него, как с человека, сердится на него, как на человека, шпыняет, как человека, и так далее. Бедный старый Кикимер, которому уже явно поздно переучиваться Свободе, Равенству, Братству, попал вдвойне. Он всю жизнь старался быть хорошим эльфом и наделся, что сумел соответствовать. А теперь вдруг выясняется, что он не умеет быть хорошим человеком.
Так что тысячу раз прав Дамблдор (точка зрения номер четыре, которую Гарри не понимает дольше и упорнее прочих), который неоднократно и разными способами (в том числе и через Гермиону) намекал Сириусу, что надо бы иметь голову на плечах – если уж относишься к Кикимеру как к равному, изволь относиться хорошо или для начала хотя бы уважать. Тогда Кикимер не озлобится на странные и пугающие перемены собственного статуса на старости лет, а почувствует себя польщенным и возвышенным – глядишь, что и получится.
Да… как вся эта нелогичность жестко логична внутри себя на самом деле. И как трудно что-то народу объяснить, будь ты хоть десять, хоть сто раз мудрым и правым Дамблдором…
Дойдет ли когда-нибудь до Кикимера, что он сделал, когда Финеас перебудит весь дом, в истерике прыгая из портрета в портрет, когда проснется и поймет, что произошло, миссис Блэк?..
До чего же легче не быть человеком… но своим поступком Кикимер обрек себя именно на то, чему изо всех сил противился – бесповоротное очеловечивание.
Тишина невыносима. Гарри тяжело дышит. Выхода нет никакого. Паника, боль, пустота и мысли. Гарри знает, что это его вина.
- И что привело тебя сюда в ранний утренний час? – доносится до Гарри хитрый голос проснувшегося Финеаса Найджелуса. – Этот кабинет, предполагается, должен быть закрыт для всех, кроме законного Директора…
Финеас, издеваясь, предполагает, что Гарри здесь, чтобы попросить его передать очередное сообщение для Сири.
Гарри молчит. Гарри пытается выйти, но дверь заперта. Что-то в его груди разрастается и душит.
- Я надеюсь, это значит, – произносит портрет еще одного волшебника, – что Дамблдор скоро вернется к нам?
Гарри кивает. Говорить у него не получается – что-то давит на легкие, горло и сердце, что-то чудовищно ворочается внутри. Он дергает дверную ручку, но безуспешно.
- О, хорошо, – говорит волшебник. – Без него было очень скучно, в самом деле скучно. – Он ласково глядит на Гарри. – Дамблдор ценит вас очень высоко, как, уверен, вы знаете. О да. Относится к вам с большим уважением.
Гарри не смотрит ни на кого. Ему невыносимо. Больше всего на свете он хочет стать кем-то другим – кем угодно, быть, где угодно, только бы не чувствовать этой невыносимой вины, этого извивающегося, горящего внутри стыда…
А потом появляется Дамблдор. Он мягко благодарит приветствующие его портреты, он не смотрит на Гарри. Он нежно кладет птенца-Фоукса в золотую клетку, бережно приглаживает его пушок, замирает.
Ему необходимо было это действие. Его самого разрывает на кусочки, ему нужно было хоть что-то, что могло бы служить опорой, точкой, от которой он сумел бы оттолкнуться – в эту ночь, в это раннее утро, ему нужно быть сильным еще чуть-чуть.
- Что ж, Гарри, – Директор поворачивается к мальчику, – тебе будет приятно услышать, что никто из твоих однокурсников не пострадал серьезно и не понесет продолжительный ущерб после событий ночи.
Он выбирает сказать это первым. Чтобы Гарри стало немного легче, чтобы ему самому стало немного легче – ведь это значит для него не меньше, чем для Гарри.
Гарри не может ничего ответить. Он не может смотреть в его глаза – впервые за долгое время обращенные к нему, Гарри.
- Мадам Помфри всех лечит. Нимфадоре Тонкс может понадобиться провести немного времени в Мунго, но, кажется, она полностью придет в себя.
Как будто Дамблдор говорит о чем-то ужасно неправильном – Гарри чувствует, будто все это – его вина – и он не понимает, почему Дамблдор говорит с такой добротой в голосе, если эта жуткая ночь была результатом лишь его, Гарри, глупости, его сводящей с ума уверенности в своей правоте, привычке играть в героя… Как будто раны других, о которых сообщает Директор, на самом деле были его, Гарри, ранами – от них у мальчика болит все…
- Я знаю, как ты себя чувствуешь, Гарри, – очень тихо говорит Директор.
- Нет, не знаете, – неожиданно крайне твердо произносит Гарри.
Финеас принимается язвить – Дамблдор жестко его прерывает. Гарри отворачивается и упрямо глядит в окно.
- Нет ничего постыдного в том, что ты чувствуешь, Гарри, – произносит Дамблдор. – Напротив… то, что ты можешь ощущать такую боль – твоя величайшая сила.
Слова Директора никак не резонируют в душе Гарри. Они кажутся ему невероятно пустыми, бесполезными и глупыми. Гарри вспыхивает от ярости – единственное чувство, на выражение которого он пока способен.
- Моя величайшая сила, да? – его голос дрожит. – Вы вообще не… вы не знаете…
- Чего я не знаю? – спокойно спрашивает Дамблдор («Жалкое человеческое тщеславие, – сказал граф Монте-Кристо. – Каждый считает, что он несчастнее, чем другой несчастный, который плачет и стонет рядом с ним»).
Чего же он не знает такого, о чем знает Гарри? Может быть, этой удушающей боли, этого яда, сжирающего всю глотку, этого огромного, черного кокона, из которого не выбраться, не спастись, этого крика, застывшего в горле? Чего же он не знает-то? Как это больно – хотеть разрыдаться в голос, но понимать, что ничего не получится? Этой тоски от неспособности даже плакать? Этой полной и беспросветной пустоты, дыры в груди? Этой надежды, что, может быть, получится спрятаться, раствориться, исчезнуть навсегда и со всеми своими чувствами? Чего же он не знает?
- Я не хочу говорить о своих чувствах, ясно? – Гарри круто оборачивается, трясясь от ярости.
Директор знает и боль больше той, что в Гарри. Боль от того, что необходимо быть сильным, невероятно жестоким.
- Гарри, страдания такой силы доказывают, что ты все еще остаешься человеком! – говорит он. – Эта боль – часть того, чтобы быть человеком –
- Тогда я не хочу быть человеком! – ревет Гарри, хватает со столика серебряный приборчик Дамблдора и со всей силы швыряет его через кабинет. – Мне все равно! – кричит он возмутившимся было портретам. – У меня было достаточно, я видел достаточно, я хочу выйти, я хочу, чтобы это закончилось, мне все равно теперь –
Вслед за приборчиком летит и столик, который разбивается вдребезги. Солнце за окном начинает медленно выходить из-за горизонта.
- Тебе не все равно, – лицо Дамблдора спокойно, почти бесстрастно. – Тебе настолько не все равно, что ты чувствуешь, будто истечешь кровью до смерти от этой боли.
Нет, Дамблдор Гарри совершенно не понимает, очевидно, так.
- Я – не --! – Гарри хочет разбить Директора. Разбить его вдребезги за это его спокойное лицо, за эти слова, трясти его, рвать – чтобы он почувствовал хоть часть того ужаса, что испытывает Гарри.
- О да, это так, – еще спокойнее произносит Дамблдор. – Ты потерял свою мать, своего отца и ближайшего человека к родителям, какой у тебя когда-либо был. Конечно, тебе не все равно.
- Вы не знаете, как я чувствую себя! – орет Гарри. – Вы – стоите тут – вы –
Дамблдор делает очень полезную вещь – он жестко загоняет Гарри обратно в рамки: ты не должен потерять эту боль. Это должно отозваться в тебе болью. Должно.
Слово «страдание» происходит от слова «страда». Труд. Если человек не страдает, он перестает быть человеком. Конечно, быть человеком – это большая ответственность, и не всякому ее захочется, но Директор не оставляет Гарри выбора, он дожимает жестко и твердо, он должен прорвать защиту мальчика, должен дать ему выплеснуть все это, он знает, что станет легче, пусть даже немного – но станет. Кроме этого… ложь недопустима. Дамблдор просто не может позволить Гарри прибегнуть к худшему – лгать самому себе. Чувства надо называть. Тогда они станут четче, меньше.
А еще он, если можно употребить это слово, счастлив.
«Страдания такой силы доказывают, что ты все еще остаешься человеком!» Все еще. Несмотря на всю ту грязь, что оставил в Гарри Реддл. Сущности – окончательно – разделены. Истинно говорят: в горе счастье ищи.
- Выпустите меня, – приказывает Гарри, не переставая дрожать – он бросается к двери, не в силах выносить ни Дамблдора, ни этот его кабинет, но она остается запертой.
- Нет, – просто отвечает Директор. Он, конечно, прекрасно помнит, как некоторые мальчики умеют приказывать. Но состязание воль он не проиграет – просто не может себе позволить, слишком многое стоит на кону – и душевное и физическое здоровье Гарри, и будущее мира, и Большая Игра…
- Выпустите меня.
- Нет, – повторяет Дамблдор. Хорошо, что Гарри буйствует сейчас. Плохо было бы, если бы он молчал.
- Если вы не --, – захлебывается Гарри, – если будете держать здесь – если вы не выпустите –
- Пожалуйста, продолжай разрушать мое имущество, – безмятежно и просто говорит Директор. – Должен признаться, у меня его слишком много.
Нет, ну Дамблдор был бы не Дамблдором, если бы не пошутил даже в этой ситуации. Будто не существует Репаро.
Он занимает законное место за своим столом, продолжая наблюдать за Гарри.
- Выпустите меня, – холодно повторяет Гарри.
- Нет, до тех пор, пока ты не выслушаешь меня.
- Вы --, – заходится мальчик, – вы действительно думаете, я хочу – вы думаете, мне – мне все равно, что вы хотите сказать! Я ничего не хочу от вас слышать!
- Тебе придется, – непреклонно произносит Директор.
И далее начинается самое интересное.
- Потому что ты даже близко не так зол на меня, как должен был бы. Если ты хочешь напасть на меня, как, я знаю, ты почти готов сделать, мне бы хотелось основательно заслужить это. – «Нападай, мальчик мой, это ничего страшного. Только мисс Грейнджер не зови, пожалуйста. Вот ее и вправду стоит бояться, судя по всему».
Оборона прорвана. Гарри в замешательстве («О чем вы --?»).
На заметку: если бы Гарри все же набросился на него, Директор не стал бы защищаться.
Он приносит себя в жертву боли мальчика, вызывает на себя весь огонь его ярости, чтобы Гарри стало легче. Но еще и потому, что считает, что ему от этого тоже станет легче. Или рассчитывает.
Признаться вслух в ошибках, принести извинения – на это нужна невероятная смелость, которая, как правило, смывает часть – самую крохотную – разрывающей боли. Он пытается найти себе выход, он не хочет быть собой. Он знает, что должен.
Но еще: он бы никогда не стал открыто брать вину на себя, если бы знал, что Гарри его не поймет. Поэтому он исправляется:
- Моя вина в том, что Сириус погиб. Или, я должен сказать, почти полностью моя вина – я не буду столь высокомерен, чтобы требовать ответственности за всю.
Дамблдор не винит Гарри, потому что Гарри его ребенок. Или просто – ребенок, которому выпало очень многое, который «видел достаточно», и он полагает, что глупо будет требовать от мальчика отчета за все, с чем тот не сумел справиться. Может быть, он и прав – своих детей я бы тоже не посмела обвинить. Но вот Гарри сам себя… с собой сложнее. С собой всегда сложнее.
Дамблдор же… он считает, что ответственен лишь он – и сам Сири.
- Сириус был храбрым, умным и энергичным человеком, а такие люди не всегда довольствуются тем, чтобы сидеть дома в укрытии, когда они считают, что другие в опасности.
Конечно, он прав. Конечно. Я много писала об этом. Тут… понимаете ли, Сири был… конечно, таким, каким его описывает Директор, но надо помнить, что он подбирает слова специально для ушей Гарри. Эти качества – смелость, ум, энергичность – Гарри ведь ценит их особенно сильно – и они прекрасны, кто спорит? – только Сири, как личность глубокая, прекрасная, сложная, обладал и целым букетом других, которые и привели его к такому – глупому, дурацкому – концу, и о которых Гарри вовсе не обязательно слышать. Он не был плохим из-за них или каким-то ущербным, он был замечательным, но… понимаете, Анна Каренина… она должна была умереть. Тоже. В ее истории – в истории, где героиня – она – не могло быть иного конца.
Я не буду спорить с утверждением, что ценность человеческой жизни проявляется лишь тогда, когда ее есть за что отдать, которому, похоже, всегда верил Сири, или что риски, которые есть в жизни, отражают величие жизни, которому он, похоже, тоже верил. Не буду спрашивать, стоят ли эти риски всего остального.
Я даже не стану говорить, стану только глубоко скорбеть, что в последнем бою Сириус от Беллатрисы больше отбивается, чем нападает, да и швыряют они друг в друга не Смертоносными проклятьями – что ни говори, а семья – это семья, поэтому только красные лучи, только красные – я не стану окунаться во все эти нюансы, потому что… потому что, черт возьми, до чего же легко рассуждать о склонности человека к саморазрушению, до чего же просто столкнуть его в небытие, а потом отойти в сторонку, пожать плечами и согласиться, что это был неизбежный исход беспорядочной, катастрофической жизни!
Есть такие границы, за которые переступать нельзя хотя бы из приличия. Дамблдор себе этого не позволяет – так разве я в праве?
Лучше обратим внимание на это Директорское «когда они считают» – оно меня уже очень давно заинтересовало. Потому что звучит так, будто опасности не было.
Что ж, по сути, ее и впрямь не было – Том знал, что Гарри его крестраж. Но только Дамблдор знает, что Том не может убить Гарри – к тому же, судя по всему, уже в декабре 1995, после операции «Змея», Том дает установку Пожирателям ни в коем случае Гарри не трогать – именно потому, что догадывается о том, что Гарри – его крестраж. Отдать право убить часть себя кому-нибудь из своих слуг? Ну уж нет.
В Финале Игры-6 Снейп крикнет Пожирателям, что Гарри «принадлежит Темному Лорду» – так вот, я полагаю, что Темнейший постановило так именно в декабре 1995 (и именно при помощи активно подсказывавшего в сторону крестражей Снейпа). И Дамблдор об этом знает. Все возможные для Гарри опасности сужаются до одного лишь Тома (ну, еще бладжеров в квиддиче, разъяренных кентавров, злого Снейпа и всякого такого – но это уже детали). И это действительно не так уж страшно.
- Как бы то ни было, – продолжает Дамблдор, – ты бы никогда, ни на секунду не поверил, что была какая-либо необходимость, чтобы ты отправился в Отдел Тайн этой ночью.
Именно эта фраза в свое время окончательно убедила меня в том, что Игра оказалась перевертышем. Именно она помогла выпутаться, когда я заканчивала предварительную работу. Дамблдор никогда не лжет – и здесь он говорит предельно прямо. Он никогда не ставил перед собой цель привести Гарри в Министерство.
- Если бы я был открыт с тобой, Гарри, как должен был быть, ты бы долгое время назад уже знал, – примерно как раз с Рождества, – что Волан-де-Морт попытается заманить тебя в Отдел Тайн, и тебя бы никогда не заставили пойти туда обманом, как этой ночью. И Сириусу бы не пришлось следовать за тобой. Эта вина лежит на мне – и только на мне. Пожалуйста, присядь, – просит Дамблдор через паузу.
Гарри колеблется, но занимает кресло напротив Директора.
- Должен ли я понимать это так, – медленно произносит Финеас, – что мой праправнук, последний из Блэков, мертв?
- Да, Финеас, – отвечает Дамблдор.
- Я в это не верю, – быстро говорит Финеас и исчезает со своего портрета.
При мысли, что он, вероятно, зовет Сири, переходя из картины в картину на Гриммо, Гарри становится дурно. Не знаю, что доставит Финеасу больше боли – смерть Сириуса или смерть последнего из рода – но это определенно будет она, боль.
- Гарри, я должен тебе объяснение, – негромко продолжает Дамблдор. – Объяснение ошибок старого человека. Потому что сейчас я вижу, что все, что я сделал или не сделал по отношению к тебе, носит все отличительные черты ошибок возраста. Молодым не понять, как думают и чувствуют старики. Но старики виноваты, если они забывают, что значит быть молодым… а я, кажется, забыл за последнее время…
Директор считает, что совершил целый ряд ошибок, и полагает их ошибками старого человека. Я бы применила другой эпитет. Возможно, «уставшего» подошло бы лучше – уставшего «за последнее время».
Он начинает издалека – о шраме Гарри, об их связи с Реддлом, которая крепла год от года («…потому что сразу после того, как ты присоединился к магическому миру, стало очевидно, что я был прав, и что твой шрам предупреждает тебя…» – ну да; вспыхнувший шрам Гарри при взгляде на затылок Квиррелла на пиру по случаю начала первого учебного года Гарри в Хогвартсе…), о том, что Реддл догадался об этой связи после операции «Змея» (скрывать сие от него 4,5 года – это, знаете ли, уметь надо). Обо всем этом я писала, и очень подробно, обо всем этом Гарри более-менее (скорее менее, чем более) уже знает.
- Да, Снейп сказал мне, – бормочет он.
- Профессор Снейп, Гарри, – тихо поправляет Дамблдор. – Но разве ты не спрашивал себя, почему не я объяснял тебе это? Почему не я учил тебя Окклюменции? Почему я даже не взглянул на тебя в течение месяцев?
Гарри пялится на Директора. Тот выглядит уставшим и грустным.
- Да, – невнятно произносит подросток, – да, спрашивал.
- Видишь ли, – продолжает Дамблдор, – я полагал, что в скором времени Волан-де-Морт предпримет попытку прорваться в твой разум <…> я боялся того, что он может использовать тебя, возможности, что он может попытаться завладеть тобой <…>. – Но тут же: – Как он продемонстрировал сегодня ночью, цель Волан-де-Морта завладеть тобой была не в моем разрушении. А в твоем. Он надеялся, когда он на короткое время завладел тобой не так давно, что я пожертвую тобой в надежде убить его. Так что, видишь, я пытался, дистанцируясь от тебя, защитить тебя, Гарри. Ошибка старого человека…
Пытаясь лишний раз не провоцировать Тома, Дамблдор отстранился от Гарри – Директор боялся способов, к каким Том может прибегнуть, чтобы извратиться над сознанием Гарри, чтобы шпионить за ним, Дамблдором. Надо полагать, чего-то такого, что случилось с Джинни.
Но в чем же ошибка, если время шло, а провалов в памяти или изменении в поведении, подобных тем, что были у Джинни, когда ею владел Том, у Гарри не появлялось, и Дамблдор все-таки подозревал (ну не может быть по-другому), что Том может захотеть использовать Гарри, чтобы вынудить Директора убить мальчика в попытке добраться до Реддла (не может быть, чтобы не подозревал, ибо уж слишком сильно от этой комбинации Тома разит подсказками Снейпа)?
Да в том, что, наверное, надо было не бегать от Гарри месяцами, жалея его нежные чувства, а посмотреть мальчику в глаза один разок, но очень основательно – так, чтобы Реддл воодушевился, залез в Гарри поглубже и самоиспепелился бы к чертовой матери, как, собственно, и произошло в Министерстве, сколько Дамблдор мальчика ни берег. И не было бы никакой проблемы, как минимум 6 месяцев Директор бы мог уже радостно рассказывать Гарри о крестражах, прогуливаться по полям и держаться за ручки, ибо Том бы, поскорее наложив выразительную кучку, закрылся бы много раньше со своей стороны. И не было бы никакого Министерства, никаких пострадавших…
Что получаем вместо этого? Полгода крестраж-лекций упущено. Доверие Гарри пошатнулось. Сири нет. Так еще и мальчика все-таки не удалось уберечь от того, чтобы Реддл не осквернил его тело своим грязным духом. Гарри просто слишком дорог Директору, позже он сам это признает. Помнится, Фоер очень хорошо высказался по схожему поводу: «Для счастья у нас было слишком много любви».
Дамблдор говорит о сообщении Сири в ночь операции «Змея» – что Гарри почувствовал, как в нем просыпается Реддл, он говорит о том, что Реддл в ту ночь понял, что может использовать Гарри, говорит о мерах, которые принял по этому поводу – об организации уроков Окклюменции.
Здесь он прерывается ненадолго – тема Окклюменции со Снейпом, его, Дамблдора, еще одной ошибки в ходе этих уроков, без сомнения, требует вновь собраться с силами – и продолжает: об Отделе Тайн, который снился Гарри, о своем плане «наконец раскрыть» Тома, о защите пророчеств, о Руквуде.
В какой-то другой жизни Гарри бы, скорее всего, сгорал от любопытства услышать все это. Но сейчас для него все теряет смысл – неважно, абсолютно неважно в сравнении с этими чудовищными спазмами в груди… Гарри важно объясниться:
- Я не практиковался, не заморачивался, я мог прекратить видеть все те сны <…>. Я пытался проверить, правда ли он схватил Сириуса, я пошел в кабинет Амбридж, – и никакого вам ответного «профессора Амбридж, Гарри», – я разговаривал с Кикимером в камине, и он сказал, что Сириуса нет, он сказал, что он ушел!
- Кикимер солгал, – спокойно поясняет Дамблдор. – Ты не его хозяин, – «Пока; но потом я кое-что сделаю, и вы оба упадете», – он мог солгать тебе и даже не наказывать себя. Кикимер хотел, чтобы ты отправился в Министерство Магии.
Дамблдор рассказывает Гарри, что сделал Кикимер, и Гарри становится очень трудно дышать.
- И Кикимер сказал это вам… и смеялся? – выдавливает он из себя.
Директор действительно как-то по-особому отмечает это: «…когда я прибыл на площадь Гриммо вскоре после того, как они все покинули дом, эльф рассказал мне – смеясь с головы до пят – куда ушел Сириус».
Я долго думала, зачем Директору понадобилось выделять это – ведь это еще больше настроит Гарри против Кикимера, чего ни в коем случае нельзя допустить. Не говоря уже о том, что сделает мальчику еще больнее.
А потом поняла. Директор не смог удержаться. Именно эта деталь вызывала в нем самую острую боль, как и в Гарри, именно смех Кикимера явился апогеем, чертой ночи, после которой Директор – белый от ярости – больше не мог сдержаться. Дамблдор произнес это вслух просто потому, что надеялся, что после этого станет легче. Во второй раз он этого не допускает:
- Он не хотел мне говорить, – «Мальчик мой, забыли, что он смеялся», – но я сам достаточно опытный Лигилимент, чтобы понимать, когда мне лгут, и я – убедил его – рассказать мне всю историю, прежде чем отправился в Отдел Тайн.
Ну да, Директор же двинуться никуда не мог без всей-то истории. Остальные подождут, усугубляй, Кикимер, деталями. Во что был одет Сириус, когда убегал из дома? Это сейчас очень важно…
Замечу: Дамблдор имеет ввиду то, что говорит. Кикимер поведал ему всю историю – какую-то такую настолько важную, что Дамблдор предпочел ее услышать сразу же, пока эльф никуда не сбежал, пока в Министерстве получали травмы детишки и Орден, которым неплохо было бы помочь.
В самом начале объяснения линии с Кикимером во всей Игре Дамблдор произносит, что эльф улизнул из дома на Рождество, поймав Сириуса на слове («Убирайся! Вон!») и «отправился к единственному члену семьи Блэк, к которому у него осталось хоть какое-то уважение» – Нарциссе.
Это вот прям Кикимер ему так и сообщил: «Я отправился к единственному члену семьи…»? Сомневаюсь.
С помощью Легилименции Дамблдор узнает не только правду о событиях этого вечера и последних шести месяцев – он понимает и мотивы Кикимера, и его отношение ко всей семье, и его отношение конкретно к Тому – ибо понять, почему же Кикимер так отчаянно стремится к Реддлу, так упорно игнорирует, что он плохой, конечно, не помешало бы.
И Дамблдор понимает – а точнее, конкретно видит – то, что полтора года спустя Гарри сумеет объяснить Гермиона: Кикимер не имел ничего против Тома, ибо помнил, что его обожаемые Вальбурга и Регулус были на его стороне. И вот, когда в сознании Кикимера мелькает Регулус, Дамблдор решительно откладывает посещение Отдела Тайн, ибо видит такое, чего никак не ожидал увидеть – дела пещерные; медальон Слизерина, подмену последнего крестража, который он, Дамблдор, искал; смерть Регулуса.
И если предположить, что я права, и Дамблдор действительно увидел все это в сознании Кикимера, становится сразу понятно, почему Дамблдор так превосходно ориентируется в Финале Игры-6. Не мог же он сам быть в пещере с Регулусом – я человек нормальный и понимаю, что есть вещи возможные, а есть невозможные; будь то правдой, то не Регулус бы водичку хлестал, а его преподаватель… Но откуда-то Дамблдор в Финале Игры-6 будет все знать. Почему бы не от Кикимера, почему бы не с этого самого вечера, когда они столь плодотворно поговорили?
С этой точки зрения еще больше объяснимы возражения Директора Гарри, когда мальчик начинает говорить об эльфе с ненавистью («И Гермиона говорила нам быть милыми с ним –» – «Она была совершенно права, Гарри…» – «Кикимер лгун – подлый – он заслужил –»):
- Кикимер, – отвечает Дамблдор, – такой, каким его сделали волшебники, Гарри. Да, его нужно пожалеть. Его существование было столь же несчастным, сколь и существование твоего друга Добби, – «…о котором я подозрительно много знаю, но ты не обращай на это внимания, мальчик мой». – Его заставили выполнять приказы Сириуса, потому что Сириус был последним в семье, где он был слугой, но он не чувствовал к нему истинной преданности. И, каковы бы ни были ошибки Кикимера, следует признать, что Сириус не сделал ничего, чтобы облегчить Кикимеру –
- Не говорите так о Сириусе! – кричит Гарри.
Но Дамблдор прав. Он прав во всем.
История Кикимера – это, без преувеличения и абсолютно серьезно, настоящая трагедия. Кикимер – невероятно несчастное создание, и тем он несчастнее, чем меньше это понимает. После всех тех горестей, что он пережил, не удивительно, что отношение к нему Сири сделало эльфа еще более несчастным.
В отчаянии он бежит от нелюбимого хозяина, предателя матери, крови, обижающего его, который никак не может общаться с нормальными людьми, следовательно, и Орден – уголовники; в отчаянии Кикимер бежит к единственной защите, которую видит – к Нарциссе, рядом с которой Люциус вовсе даже не стремится громко оглашать Кикимеру, по чьим приказам они действуют и ради каких целей.
Дамблдор отмечает это особо – эльф не входил в контакт с Томом, он пытался стать нужным и любимым в другой части семьи, с которой был связан нерушимо и до конца жизни. Директор осознавал, что такое возможно, с самого начала: «Я предупредил Сириуса <…>, что к Кикимеру нужно относиться с добротой и уважением. Я также сказал ему, что Кикимер может быть опасен для нас», – но Сириус не внял словам Директора.
Кикимер действительно таков, каким его сделали волшебники. Нельзя ругать ребенка за то, что он избивает кота, если ты сам бьешь жену. Нельзя ругать Кикимера (тем более – его винить) за то, что ему захотелось тепла. Он не любил Сириуса, но вынужден был ему подчиняться, терпеть, когда Сири срывал на нем всю накопившуюся злость. Естественно, Кикимер и сам стал озлобленным и захотел мстить Сири, в котором видел причины не только своих страданий, но и страданий обожаемой Вальбурги.
А в том, что он действительно любил хозяйку, нет ничего необычного. Да, ту самую, которая дала ему имя, очень созвучное со словом «существо», предельно ясно высказывая свое к нему отношение – но мне странно непонимание ее точки зрения на домовиков. И точки зрения Сириуса на них же.
Отрубленными головами лестницу, конечно, украшать нехорошо, но только при условии, что головы расцениваются как принадлежащие разумным существам. Английская аристократия, отмечу вслед за Анной, все же немного продвинулась по сравнению с охотниками за черепами. У них широко распространена привычка украшать дом (и лестницу тоже) головами животных – охотничьими трофеями. Пратчетт, помнится, издевался над этим крайне остроумно (там, где Ваймс к Сибилле Овнец в гости приходит и заценивает ситуацию следующим образом: судя по количеству голов животных на стенах, «Овнецы извели больше видов, чем эпоха Великого Оледенения»).
Вальбурга со своей точки зрения ведет себя абсолютно нормально, логично и внутренне непротиворечиво – просто для нее эльфы вот настолько не люди, а животные.
А для Сириуса они – люди. Да, он на дух не переваривает Кикимера, но как человека, а не как животное. И шпыняет, как человека. «Сириус не ненавидел Кикимера, – чуть позже пояснит Дамблдор продолжающему бушевать Гарри. – Он относился к нему, как к слуге, недостойному большого интереса. Равнодушие и пренебрежение наносят гораздо больше вреда, чем открытая неприязнь… фонтан, который мы сегодня разрушили, лгал. Мы, волшебники, плохо обращались и обижали наших ближних слишком долго, и теперь мы пожинаем наши плоды <…>. Сириус не был жестоким человеком, он был добр к эльфам вообще. Он не любил Кикимера, потому что Кикимер был живым напоминанием о доме, который Сириус ненавидел».
Ах, поберегите нежные детские уши – будто дом сам не был о себе напоминанием… Но Гарри и без того не в духе – не время сейчас углубляться во все сложности семейных взаимоотношений Блэков; пусть будет «дом».
Безразличие – это был максимум добрых чувств к данному конкретному эльфу, которые Сири мог испытывать. И то – только в очень хорошем настроении («Где этот дурацкий эльф?.. Неважно…»). Это – вторая точка зрения на ситуацию, тоже логичная сама в себе и непротиворечивая.
Но еще сложнее взглянуть на ситуацию глазами самого Кикимера.
Вот он живет себе, воспитанный в духе того, что он не человек, а вещь (они все так воспитаны. Добби сумел до некоторой степени из этого выбраться, а Винки – нет. Не всем дано. Добби вообще выдающийся эльф, отличающийся необыкновенной смелостью и способный пойти против мнения своей среды, чем он мне всегда и нравился. А что смешной – так все смешные, даже Дамблдор, когда запивает дольки валерианкой у перископа и повторяет себе, что ничего не должен делать). Кикимеру хорошо и удобно в рамках своей вещности. Он будет всю жизнь при деле, свято предан своим любимым хозяевам, а потом ему окажут великую честь – его головой украсят Хозяйскую Лестницу. Ну чем не рай и воздаяние?
И тут происходит потрясение основ. Вместо нормальной Вальбурги и прочих умных Блэков нарисовывается вырожденец Сириус и относится к Кикимеру, как к человеку. То есть требует с него, как с человека, сердится на него, как на человека, шпыняет, как человека, и так далее. Бедный старый Кикимер, которому уже явно поздно переучиваться Свободе, Равенству, Братству, попал вдвойне. Он всю жизнь старался быть хорошим эльфом и наделся, что сумел соответствовать. А теперь вдруг выясняется, что он не умеет быть хорошим человеком.
Так что тысячу раз прав Дамблдор (точка зрения номер четыре, которую Гарри не понимает дольше и упорнее прочих), который неоднократно и разными способами (в том числе и через Гермиону) намекал Сириусу, что надо бы иметь голову на плечах – если уж относишься к Кикимеру как к равному, изволь относиться хорошо или для начала хотя бы уважать. Тогда Кикимер не озлобится на странные и пугающие перемены собственного статуса на старости лет, а почувствует себя польщенным и возвышенным – глядишь, что и получится.
Да… как вся эта нелогичность жестко логична внутри себя на самом деле. И как трудно что-то народу объяснить, будь ты хоть десять, хоть сто раз мудрым и правым Дамблдором…
Дойдет ли когда-нибудь до Кикимера, что он сделал, когда Финеас перебудит весь дом, в истерике прыгая из портрета в портрет, когда проснется и поймет, что произошло, миссис Блэк?..
До чего же легче не быть человеком… но своим поступком Кикимер обрек себя именно на то, чему изо всех сил противился – бесповоротное очеловечивание.
