БИ-5
Глава 56
Утраченное пророчество
Утраченное пророчество
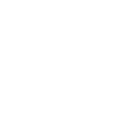
Разумеется, разговор просто не может не коснуться Снейпа, который, то целиком, то боком, все время присутствует рядом с обоими.
Дамблдор посвящает его действиям в Финале невероятно большую часть своих объяснений, хотя Гарри всего лишь спрашивает у него, откуда ему известно о предательстве Кикимера – и Снейп к этому не имеет абсолютно никакого отношения.
Имя всплывает вновь, когда Гарри взрывается от слов Дамблдора об отношении Сириуса к Кикимеру:
- Не говорите так о Сириусе! А что о Снейпе? Вы о нем не говорите, да? Когда я сказал ему, что Сириус у Волан-де-Морта, он только поглумился, как обычно –
- Гарри, ты знаешь, что у профессора Снейпа не было выбора, кроме как притвориться, что он не воспринимает твои слова всерьез, перед Долорес Амбридж, – непреклонно произносит Дамблдор, – но, как я объяснил, он проинформировал Орден о том, что ты сказал, так быстро, как было возможно.
- Именно он, – продолжает Дамблдор, – вычислил, куда вы отправились после того, как не вернулись из Леса. Также именно он дал профессору Амбридж поддельную Сыворотку Правды, когда она попыталась заставить тебя раскрыть местонахождение Сириуса.
Дамблдор защищает Снейпа с неподдельной трогательностью – даже Сыворотку припоминает. Все дело в том, что Директору, потратившему столько усилий для того, чтобы между Гарри и Снейпом образовалось хоть что-то, напоминающее нормальные отношения, хочется, чтобы Гарри ненавидел Снейпа, еще меньше, чем чтобы Гарри ненавидел Кикимера. Отношения между Гарри и Кикимером, между Гарри и Снейпом стратегически важны, да, но, кроме того… Директору просто по-человечески хочется, чтобы упрямые мальчики наконец поладили.
Гарри его не слышит. Он чувствует ожесточенное удовлетворение, виня Снейпа, это облегчает его собственную боль.
- Снейп – Снейп подстрекал Сириуса покинуть дом – он выставлял Сириуса трусом –
- Сириус был слишком взрослым и умным, чтобы позволить таким ничтожным насмешкам ранить его, – перебивает Дамблдор, ясно давая понять, как относится к действиям Снейпа – но и к действиям Сири тоже. Он считает глупым обижаться на подколы Снейпа, он не соглашается с Гарри.
Дамблдор просто не может позволить себе сделать это, как бы сильно Гарри ни желал от него обратного; он не может позволить себе лгать – Гарри и самому себе тоже. Снейп здесь вовсе ни при чем. Он знает: «У него Бродяга!» – было криком Гарри о помощи, разящей, отчаянной просьбой. Мигом, когда мальчик полностью открылся и доверился ему – и Снейп откликнулся, он услышал, он понял. Не смог уберечь – но очень старался. Потому что понял, как это важно для Гарри. Он пытался спасти Сириуса не ради Сириуса, он пытался помочь Гарри.
Эти круги – они начали расходиться от Лили, от Дамблдора, от Гарри… Нет, Дамблдор не может подыграть мальчику и обвить Снейпа только затем, чтобы Гарри стало легче и комфортнее. Снейп сделал все, что мог. Он выполнил обещание Дамблдора («…вы найдете также, что в Хогвартсе всегда будет предоставлена помощь тому, кто о ней просит») – если бы он не поднял Орден, всех детишек забили бы к чертовой матери. Он повел себя лучше всех этой ночью.
- Снейп перестал давать мне уроки Окклюменции! – выплевывает Гарри. – Он выкинул меня из своего кабинета!
- Мне об этом известно, – тяжело и весомо отвечает Дамблдор и сразу же переводит удар на себя, заметно прокалываясь: – Я уже сказал, что это было моей ошибкой не учить тебя самостоятельно, хотя в то время я был уверен, что не может быть ничего более опасного, чем открывать твой разум Волан-де-Морту еще больше, пока ты находишься в моем присутствии –
Дамблдор, конечно, волнуется, поэтому и позволяет себе проболтаться – уроки были направлены на открытие, а не закрытие разума – но уж слишком болит эта тема – погони за возможностью примирить Гарри и Снейпа и той катастрофы, коей все обернулось. Уж в чем-чем, а в этом Снейп виноват меньше всего – хотя предельно ясно, что Директору не стоит сейчас напоминать Гарри о том, что в ситуации с Омутом вовсе не Снейп повел себя, как свинья.
«…в то время я был уверен…» – произносит Дамблдор, теперь зная, что было кое-что еще опаснее – смерть крестного Гарри, например. Надо, надо было таки дать Тому возможность вселиться в мальчика раньше, но Дамблдор боялся, не зная, в какую сторону мог бы тогда решиться вопрос связи, не желая мучить Гарри, не решаясь проверить, сможет ли он справиться с Реддлом внутри. Кстати, очень может быть, что Гарри бы не сумел.
Возможно, с точки зрения каких-то высших и очень жестоких мистических законов смерть Сири была необходима, чтобы Гарри справился – не на это ли указывает Директор, отмечая, что боль, «страдания такой силы доказывают, что ты все еще остаешься человеком»? Только благодаря этой боли Гарри удалось изгнать из себя Реддла. Только с ее помощью Гарри вытолкнул Тома из сознания. Не было бы этого – кто знает, как решился бы вопрос. Все к лучшему в этом лучшем из миров, не так ли? И не дай вам Мерлин когда-нибудь понять, как приходят к таким выводам.
- Снейп сделал только хуже, мой шрам всегда болел после уроков с ним --, – продолжает настаивать Гарри. – Откуда вы знаете, что он не пытался размягчить меня для Волан-де-Морта, облегчить ему задачу проникнуть в мою –
Вновь – уже громче, гораздо громче, чем в прошлом году – из уст Гарри вырывается этот страшный вопрос. Вопрос веры. Через год он приведет к краху, через год он станет ребром между Гарри и Дамблдором – знает ли об этом Директор? Он определенно понимает, что мысли Гарри движутся не в том направлении, и это может быть опасным – но он, увы, не в силах пока ничего сделать. Он связан обещанием. Он повторяет еще раз:
- Я доверяю Северусу Снейпу.
Но Дамблдор, конечно, не был бы Дамблдором, если бы, прямо не нарушая данного обещания, но никак не противореча своим намерениям на сей счет, не попытался намекнуть Гарри, что все не так просто – не дал бы подсказку, почему вообще Снейп ведет себя так, что Гарри кажется, будто ему нельзя доверять:
- Но я забыл – еще одна ошибка старого человека – что некоторые раны лежат слишком глубоко, чтобы их вылечить. Я думал, профессор Снейп смог преодолеть свои чувства к твоему отцу – я был не прав.
Гарри этого не слышит («Но это нормально, да? Это нормально для Снейпа ненавидеть моего отца, но это ненормально для Сириуса ненавидеть Кикимера?»). Намек, меж тем, настолько непрозрачен, что в кабинете, освещенном рассветным солнцем, становится аж темно – худшее воспоминание Снейпа, отвратительная выходка Гарри, ненависть Гарри, ненависть Снейпа к мальчику и его отцу – и все же – все же – поддельная Сыворотка, поднятый по тревоге Орден, Снейп, рыщущий в темноте по кишащему беспокойными кентаврами и Гроххом Лесу в поисках Гарри… Неужели так сложно было догадаться, что подобному разрыву между чувствами и поведением существует глубинное, невероятно сложное объяснение?
Гарри этого не понимает. Дамблдор – не может сказать.
- Сириус не ненавидел Кикимера, – произносит он, навсегда уводя Гарри от Снейпа в этом разговоре, и продолжает молчать о его тайне, да и Гарри все равно в этот миг – он уже решил для себя и вряд ли так быстро и просто изменит мнение.
Меж тем, Дамблдор вновь переводит вину на себя – это его ошибка – то, как закончились уроки Окклюменции, и то, что из этого вытекло, это он не был прав. Из уважения к чувствам Снейпа он разрешает ему не продолжать уроки, он вообще не заводит разговор об их продолжении. Действительно – ошибка старого человека…
Чувства Снейпа не менее дороги Директору, чем чувства Гарри, и любит он его никак не меньше, чем любит Гарри. Дамблдор понимает, что то воспоминание – живая рана – уж раз даже Гарри сгорает от боли при виде всей той сцены, можно себе представить, что чувствует Снейп – и Дамблдор… он очень тактичен с ним. Нельзя сказать, что он сделал это специально, с плохими намерениями, но в конце концов получается, что ради Снейпа Дамблдор пожертвовал и Окклюменцией, и Гарри, и Сириусом, и едва ли не всей Игрой.
Конечно, у него была надежда, что большие и маленькие мальчики все сумеют решить между собой – он думал, что Люпин поможет Снейпу побороть эту гордость, но Снейп ведь непробиваемый чертов кремень. Гарри, конечно, отчасти прав – Снейп виноват в этом разрыве контакта с мальчиком, но – лишь отчасти. Впрочем, я уже писала об этом.
Дамблдор понадеялся и на Гарри, опустив Игру на его плечи (и плечи Снейпа, который самоудалился, да как же его винить в этом?), допустил свое устранение из замка и оставил мальчика одного. А Гарри просто запаниковал. Если бы не Снейп, вовремя – и, чего уж тут, благодаря Люпину – более-менее взявший себя в руки, пусть и в самый последний момент, Министерство в ту ночь превратилось бы в детское кладбище. Так полагает Дамблдор, признавая свою вину, и, вероятно, в какой-то мере он прав.
- …потому что Кикимер был живым напоминанием о доме, который Сириус ненавидел, – заканчивает Директор свои заметки к теме сложных взаимоотношений Звезды и несчастного домовика.
- Да, он его ненавидел! – голос Гарри ломается. Он поднимается на ноги и принимается бесконтрольно мерить шагами кабинет. Как же все-таки они с Директором близки – и как трогательно это видно даже здесь. Ну в чьем еще кабинете Гарри позволил бы себе так себя вести? – Вы заставили его оставаться запертым в этом доме, а он его ненавидел, поэтому он хотел выбраться прошлой ночью –
- Я пытался сохранить ему жизнь, – тихо говорит Дамблдор.
Гарри попал ему в самое сердце. Его совесть приобретает отчетливый вид одной наглой, громкой, страдающей, бушующей, но несомненно правой очкастой физиономии.
- Людям не нравится, когда их запирают! – яростно возражает Гарри, вновь ударяя в цель и вовсе не замечая этого (великий Мерлин, поразительная тактичность!). – Вы делали так со мной все прошлое лето –
Дамблдор закрывает глаза и прячет лицо в ладонях.
Гарри, Сириус, Трелони, Ариана… по всей видимости, подобный способ попытаться избежать проблем и беды – это у Директора… мм… как бы сказать… выработанное наследственное. Иногда это работает. Но в моменты, когда не работает, Директор получает по полной программе – от собственной совести, от очкастого ее проявления, от любимого сотрудника, собственного брата…
Но, наверное, так всегда бывает – люди набираются поразительного красноречия и мигом оказываются рядом только тогда, когда ты ошибаешься. В жизни Дамблдора эти ошибки, к сожалению, целиком под стать ему – велики.
Великие люди притягивают к себе удары судьбы, как высокие деревья – молнии. Он должен быть сильным (а то Гарри, некоторое время назад готовый покусать его за его спокойствие, теперь хочет разорвать его за его слабость и печаль). Он должен продолжить этот разговор, он избегал его слишком долго. Можно сколько угодно еще рассуждать о Сири, Кикимере, Снейпе и прочих, любыми способами тянуть время – но Директор знает: сейчас или никогда. Ему нужно быть жестоким еще один раз.
Он опускает руки и глядит на Гарри поверх очков-половинок:
- Пришло время рассказать тебе то, что я должен был рассказать тебе пять лет назад, Гарри. Пожалуйста, присядь. Я собираюсь рассказать тебе все. Я прошу лишь немного терпения, – «Помоги мне сделать это», – у тебя будет шанс бушевать и злиться на меня – делать все, что ты захочешь – когда я закончу. Я не остановлю тебя.
Некоторое время Гарри свирепо смотрит на него (прям так и вижу, как то же периодически проделывает в кабинете Директора Снейп; так что у Дамблдора запас волшебных фраз для успокоения особо буйных мальчиков за эти годы выработался, мягко говоря, достаточно обширный), однако делает над собой усилие, садится на место и затихает.
Опустим, что Дамблдор рассказывает Гарри настолько «все», что я до сих пор ответы ищу, и сосредоточимся на том, что он все-таки говорит.
А говорит он вещи, мне-сегодняшней хорошо уже понятные, невероятно даже очевидные – но в сердце Гарри они оставляют еще большую пустоту и смятение. Когда я впервые читала это «все» Директора, мне казалось, что я упускаю что-то огромное и невидимое в этом стройном и ладном рассказе, но списывала все на свой возраст, на то, что мне это кажется. Что ж. Лучше поздно…
Дамблдор начинает с объяснения, почему Гарри должен был жить с Дурслями и возвращаться к ним хотя бы раз в год (аккуратно замалчивая, почему же Гарри проторчал у маглов все прошлое лето – и правильно делая, а то бы Гарри, услышав о Сириусе и прочих нюансах подобного решения Дамблдора, снова бы начал кричать, от чего Директор и так уже порядком устал).
Причины эти я освещала наиболее подробно, когда писала о Финале Игры-4, и нет нужды делать это снова. Можно лишь остановиться не на магии, а на психологии, добавив, что подобное решение Дамблдора (оставить Гарри у маглов) было не идеальным, а именно оптимальным. Он не мог знать заранее, сколько в Гарри от Тома и какая часть окажется сильнее, поэтому риск того, что Гарри, воспитанный так, как его воспитали, может озлобиться так же, как Том, всегда существовал.
Однако условия, в которые был помещен Гарри, все же отличаются от условий, в которых вырос сирота-Том – Дурсли знали, что Гарри – волшебник, Петунье, конечно, было страшно, но, поскольку она выросла рядом с волшебницей-сестрой, все это не являлось для нее таким инфернальным, каким оно было для детдомовского окружения Тома.
Тома боялись, столкнувшись с чем-то неизведанным, и это делало его особенным, наделяло властью. А Гарри ругали за магию изо всех сил, так что он переживал из-за своей ненормальности и опасался, вдруг она снова проявится. Здесь дело не в озлобленности, которая равновероятна в этих условиях, а в профилактике развития осознания себя высшим существом.
Гарри нельзя было отдавать в семью волшебников, ибо слава могла его развратить. Гарри нельзя было отдавать в семью нормальных маглов, иначе бы мальчика тоже начали бояться, как Тома, делая исключительным.
Кроме прочего, Гарри находился под постоянным наблюдением («…а я смотрел за тобой более пристально, чем ты можешь себе представить…») – в том числе, вероятно, на случай, если вдруг способности Гарри проявятся так рано и сильно, как у Тома (чего не произошло; полагаю, в том числе и потому, что Петунья и Вернон ругали мальчика за магию), и Гарри решит ими воспользоваться с целью устранения родни. Возможно, на этот случай было предусмотрено вмешательство (потом, кстати, Гарри вполне себе третирует родственников магией, но это уже не является ключевым для формирования характера и самоосознания).
Риски, конечно, были, но все прошло нормально, и в 11 лет Гарри ввели в мир, где его способности уже не были исключительными (и не переставали устами Снейпа громко об этом напоминать), а по сравнению с той же Гермионой являлись даже весьма посредственными, а тому, в чем Гарри действительно был исключителен, уже сформировался противовес в виде 10-летнего воспитания в черном теле. На мой взгляд, комбинация блестящая, как бы ни вопили на сей счет разнокалиберные господа знатоки педагогики.
Итак, Дамблдор рассказывает подростку о защите крови и дома (открыв Гарри Америку тем, что признается, что это он прислал Петунье Громовещатель после летнего вояжа дементоров на Тисовую, и велосипед, указав на то, что Петунья – ненавидя, не желая этого, все же приняла Гарри в семью); об ошибке Тома, который не рассчитал последствия древней магии, которую он презирал, ошибке Тома, который не верил, что это вообще возможно – роковая для него жертва Лили – ибо то, на что способна мать, действительно невозможно предвидеть; он рассказывает Гарри о гордости, которую испытывал в конце первого года обучения мальчика, второго… он говорит о провале своего превосходного плана, о ловушке, которую предвидел, которой мог бы избежать – и должен был это сделать.
Он упоминает о том, как «издалека наблюдал» за третьим годом обучения Гарри, говорит о четвертом, повторяет, что не смог себя заставить избежать этой чудовищной ловушки – и наконец, собравшись с силами, подходит к главному:
- Волан-де-Морт пытался убить тебя, когда ты был ребенком, из-за пророчества, которое было сделано незадолго до твоего рождения.
Дальше говорить все легче. Он объясняет, что Том не знал полного содержания пророчества, стремился узнать его, чтобы уничтожить Гарри – и, наконец, признается, что шар, разбившийся в Отделе, был всего лишь записью пророчества, которое сделали – ему.
- Холодной, промозглой ночью 16 лет назад, в комнате над баром в трактире «Кабанья Голова». Я пришел туда увидеться с претендентом на должность преподавателя Прорицаний, хотя это было против моего намерения разрешать продолжить преподавание предмета и вовсе. Претендент, однако, была праправнучкой очень известной, крайне одаренной прорицательницы, и я подумал, что будет обычной вежливостью встретиться с ней. Я был разочарован. Мне показалось, что у нее нет и следа дара. Я сказал ей, надеюсь, учтиво, что не считаю ее подходящей к должности. Я повернулся уйти.
Хорошая такая цена за «обычную вежливость» – то ли дар небес, то ли проклятье.
Дамблдор переносит Омут Памяти на свой стол, добавляет в него свою мысль и со вздохом тыкает палочкой в серебряную субстанцию – нелегко дается правда. Но он уже ступил на этот путь.
- Тот, у кого будет сила побороть Темного Лорда, приближается… – потусторонним голосом извещает кабинет фигура восставшей из Омута Сибиллы Трелони. – Рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца… и Темный Лорд отметит его, как равного, но у него будет сила, которой Темный Лорд не знает… и один должен умереть от руки другого, потому что ни один не может жить, пока жив другой… тот, у кого будет сила победить Темного Лорда, родится на исходе седьмого месяца…
После мига оглушающей тишины Гарри непонимающе спрашивает только:
- Профессор Дамблдор? Это… это значило… что это значило?
Сколько раз Директор, объясняющий Гарри значение слов Трелони, слушал это пророчество? Он знает его наизусть, он досконально изучил каждый вариант трактовки.
- Странность в том, Гарри, что пророчество могло иметь ввиду вовсе не тебя.
Дамблдор очень тяжело вздыхает. Он отмечает, что под описание мальчика, родившегося в конце июля, подходит не только Гарри, но и Невилл.
Гарри кажется, будто что-то захлопывается над ним с оглушительным треском – он пытается вырваться, пытается найти выход, пытается убедить вселенную в том, что, возможно, ей нужен Невилл, пытается доказать, что Реддл ошибся.
- Боюсь, – медленно произносит Дамблдор, будто каждое слово доставляет ему жуткую боль, – что нет сомнения в том, что это ты, Гарри <…> Волан-де-Морт сам отметит его, как равного <…>. Он увидел в тебе себя прежде, чем увидел тебя, и, отметив тебя этим шрамом, он не убил тебя, как намеревался, но дал тебе силы и будущее, которые помогли тебе спастись от него не один раз <…>.
Это не должен был быть Гарри. Но Гарри стал тем, о ком было сделано пророчество, благодаря Реддлу, который выбрал мальчика и дал ему силу, которая ему неизвестна, и дал ему Дамблдора, обеспечившего будущее Гарри так, что пророчество стало сбываться.
Потому ему так тяжело – он не станет признаваться, однако в том, что Гарри уготовано, виноват и он сам – они с Реддлом сделали это – по-разному, для разных целей, с разными намерениями, но – вместе.
Дамблдор знает пророчество наизусть. Он сверяет с его текстом все свои действия в Большой Игре, он пользуется им и его толкованием, как подсказкой. Классический эффект Пигмалиона, в который попадается Том, в который, в конечном счете, попадается и Гарри (ведь Дамблдор разъясняет Гарри пророчество так, как надо) – психологический феномен, заключающийся в том, что ожидание личностью реализации пророчества во многом определяет характер ее действий и интерпретацию реакций окружающих, что и приводит к самоосуществлению пророчества.
Есть там одна крайне любопытная строчка: «…either must die at the hand of the other for neither can live while other survives…» – и переводить ее можно очень по-разному.
Можно в классическом смысле: «Один должен умереть от руки другого, потому что ни один не может жить, пока жив другой», – если воспринимать слово «either», как английский аналог словосочетания «один из». Но ведь имеется и иной перевод – «каждый».
Соответственно, «neither» можно понимать, как «ни тот, ни другой», а можно – и как «никто».
Первый вариант толкования ставит очень узкие, напугавшие Гарри рамки – Гарри должен либо погибнуть, либо стать убийцей. Второй кажется еще более однозначным: погибнуть должны оба.
И именно по этому поводу Дамблдор не говорит ничего конкретного (да Гарри и не сильно спрашивает), отвечая лишь: «Это значило, что тот, у кого есть единственный шанс навсегда победить Волан-де-Морта, был рожден в конце июля почти шестнадцать лет назад у родителей, которые к тому времени трижды бросали вызов Волан-де-Морту».
Есть шанс, понимаете ли… Ни слова – ни единого – об этой строчке пророчества. Гарри сам все понимает (как-то), и Директор его не переубеждает.
Ибо мастерить реальность так, чтобы пророчество сбылось само – задача очень тонкая. Повезло еще, что Том Дамблдору в этом деле активно помогает с первой же секунды – не только отмечая Гарри, как равного себе, но и отдавая ему силу, о которой не знает – и подпитывая другую силу Гарри, о которой знает и которую презирает, при каждой буквально встрече.
Ибо часть о том, что «Темный Лорд отметит его, как равного» и так далее, Снейп, обнаруженный Аберфортом, пропустил. Том, отправившись убивать именно Гарри, думал, что выполняет условия пророчества, он не представлял, какую опасность таят в себе его действия, а потому даже не подумал подождать, пока Гарри и Невилл вырастут, чтобы решить, кто для него хуже. Он сам выбрал себе равного, сам дал Гарри силу.
Дамблдор описывает момент с выдворением одного из «так скажем, более интересной клиентуры, чем в «Трех Метлах» из паба довольно подробно, обстоятельно и хладнокровно. Разумеется, он всецело контролирует разговор, да и Гарри сейчас находится вовсе не в том состоянии, чтобы докапываться, кем был тот шпион Реддла.
Однако Снейп мелькает в опасной близости от истории с пророчеством уже не в первый раз за последние сутки – еще Малфой перед началом битвы в Министерстве, кажется, еще немного – и точно проболтался бы. Всем трем сторонам – Пожирателям, Дамблдору, Снейпу – неимоверно повезло, что до упоминания его имени всуе в контексте этой истории Гарри так и не доходит. Но, черт побери, как же все-таки елозит по ушам этот монолог Директора о некоем таинственном соглядатае, которого выкинули из «Кабаньей Головы» «взашей»…
- …он не знал, что у тебя появится сила, о которой Темный Лорд не знает –
- Но у меня ее нет! – в отчаянии произносит Гарри. – У меня нет никаких сил, которых нет у него, я не умею сражаться, как он делал сегодня, я не умею завладевать людьми или – или убивать их –
- В Отделе Тайн есть комната, которая держится закрытой во все времена, – перебивает Дамблдор. Гарри думает не в ту сторону. Все еще. – Она содержит силу, которая одновременно более прекрасна и более ужасна, чем смерть, чем человеческий разум, чем силы природы. Она также, возможно, наиболее таинственна из всех предметов для изучения, которые находятся там. Именно силой, которая содержится в той комнате, ты обладаешь в таком количестве, а Волан-де-Морт и вовсе ее лишен. Эта сила повела тебя спасать Сириуса сегодня ночью. Эта сила также спасла тебя от того, чтобы оказаться во власти Волан-де-Морта, потому что он не мог вынести нахождения в теле, столь полном силы, которую он ненавидит. В конце концов, не имело значения, что ты не сумел закрыть свой разум. Тебя спасло твое сердце.
Страшная сила. Любовь.
Гарри закрывает глаза. Он думает: если бы он не бросился спасать Сириуса, Сириус бы не умер… Шок от услышанного пророчества больше ничего не значит. Боль при мысли о Сириусе душит все остальное – ничто больше не имеет значения. Дамблдор прав – эта сила… она заставляет оставаться человеком – но и уничтожает в ничто, разрывает сердце, прожигает горло…
- Конец пророчества, – спрашивает Гарри, чтобы оттянуть момент, когда мысли о Сири вновь заполнят душу, но совершенно не интересуется ответом, – там что-то о… ни один не может жить…
- Пока жив другой, – помогает Дамблдор. Сколько же раз он слушал все это? Сколько лет провел в этой муке?
- Так… так это значит, что… что одному из нас придется убить другого… в конце?
- Да, – говорит Дамблдор.
«И нет», – молчит Дамблдор. Но сейчас не время, нет. Не думаю, что он и сам уверен.
Директор и мальчик молчат бесконечно долгое время. Где-то внизу, слышит Гарри, на завтрак торопятся первые студенты – они не знают, и им все равно, что Сириус умер.
Гарри кажется, что Сириус в миллионе миль от него – и все еще, иррационально и глупо, верится, что стоило добраться до той вуали, отвести ее в сторону, чтобы увидеть его опять – смеющимся своим хрипловатым смехом и вновь бросающимся в битву…
Почему Дамблдор тянул с Окклюменцией до самого последнего момента?
Я довольно долгое время не могла найти ответ на этот вопрос и все пыталась понять, что же хотел сказать Дамблдор в своей Финальной речи, а потом вдруг поняла: он хотел сказать то, что сказал.
«Я ошибся», – раз за разом повторяет Директор.
Он самым подробным образом, спокойно и просто объясняет, в чем видит ошибку своего прекрасного плана: «Ты был слишком дорог мне. Твое счастье было для меня важнее, чем твое знание правды, твое душевное спокойствие – дороже моего плана, твоя жизнь – ценнее тех жизней, которыми, возможно, пришлось бы расплатиться за провал этого плана. Другими словами, я действовал именно так, как Волан-де-Морт ожидает от нас, дураков, которые любят. Есть ли защита? – Нет. – Я бросаю вызов любому, кто наблюдал за тобой, как я – а я смотрел за тобой более пристально, чем ты можешь себе представить – не хотеть оградить тебя от еще большей боли, чем ты уже пережил. Какое мне было дело до безымянных и безликих людей и существ, убитых в неясном будущем, если здесь и сейчас ты был жив, здоров и счастлив? Я никогда не мечтал, что у меня на руках окажется такой человек».
Жуткая сила. Любовь.
Дамблдор говорит как бы о пророчестве, но на самом деле эти слова в той же мере относятся и к Окклюменции, уж очень эти темы взаимосвязаны, и, начав разговор об одном, Дамблдор неминуемо был вынужден рассказать и о другом. Он вновь и вновь, даже когда Гарри не спрашивает, обращается мыслями к Снейпу. Он ищет сил и в нем тоже.
Он – всего лишь человек, любящий и добрый. Он просто не мог заставить себя поговорить с Гарри раньше, потому что рассказывать пришлось бы слишком много, включая якобы предопределенный пророчеством Финал (как его ни переводи – печальный).
Даже после операции «Змея», когда, казалось бы, необходимость что-то делать стала очевидной и острой – он посылает объясняться с Гарри Снейпа, он уверяет себя, что выходить с мальчиком на прямой контакт опасно для Гарри из-за Реддла – конечно, это так; но есть еще причина, и я ее уже озвучила.
Вздумай Дамблдор заняться с Гарри Окклюменцией до возрождения Реддла, неудобных вопросов было бы куда больше. И ответы на них неминуемо бы означали для Гарри конец детства. Дамблдор просто не сумел заставить себя раньше времени взвалить на плечи мальчика тяжелую взрослую ношу.
Думается мне, он осуждает себя за это даже слишком строго. Он превращает Финальный разговор Игры Года в свое покаяние и справляется с этим со всей возможной жесткостью – и даже жестокостью – к себе. «Я ошибся, я был неправ… нас, дураков, которые любят…» – снова и снова повторяет Директор. Он ведь полностью винит себя в том, что произошло – в смерти Сири, в провале оттепели отношений Гарри и Снейпа, в том, как себя чувствовал Снейп, Гарри, как разрывается теперь сердце Люпина, потерявшего друга, едва успев его обрести…
- Я чувствую, что должен тебе еще одно объяснение, Гарри, – нерешительно произносит Дамблдор. – Ты мог, возможно, спрашивать себя, почему я так и не выбрал тебя старостой? Я должен признаться… я думал… на твоих плечах лежало достаточно ответственности.
Впервые за очень долгое время Гарри поднимает на него взгляд. Слеза прячется в его длинной серебряной бороде.
Разумеется, для Дамблдора смерть Сириуса и боль Гарри – это огромное личное горе. Возможно, он прав, и в том, как закончилась Игра Года, есть его ошибки. Но имеет ли Гарри право согласиться с ним? Имеет ли он право вслед за Директором винить его – если Директор так любит Гарри?
Лично я бы сказала Дамблдору: вы сделали все. Вы показали замечательную Игру. Что-то не получилось. В следующий раз получится лучше. Большинство ваших ошибок можно исправить, это значит, что вы не ошиблись.
Меня до сих пор поражают люди, которые считают его жестоким злодеем или дураком. Я годами наблюдаю, как эти люди громко высказывают Свое Мнение, каждым словом все больше подтверждая свою глубокую умственную и нравственную инвалидность. Они ничего не понимают в жизни, если готовы сравнить Дамблдора едва ли не с Волан-де-Мортом и Грин-де-Вальдом в одном лице.
Я бы – как бы помягче это сказать? – в очередной раз скопипастила бы Анну и ввела этим людям один простой экзамен на право называться sapiens – сначала объяснить смысл слов Директора о том, что Гарри был ему слишком дорог. Объяснить так, чтобы было видно, что есть глубинное понимание. Не получилось не скатиться в «Да Он Просто Манипулировал И Лгал, Чтобы Гарри Выполнил Для Него То, Что Он Хочет», – иди и, как говорил еще один великий, страдай. И не доставай других людей своим стремлением красиво выразить Мнение души откровенно, позорно темной.
Я даже подумывала сгоряча, что открывать доступ к моим записям по Игре следует после такого же экзамена. Но потом решила, что это уж слишком. Вдруг кто-то прочитает и поймет. Хотя бы двое из десяти. Игра – искусство все же.
Дамблдор любит Гарри так сильно, что от этого становится больно. Я не нахожу в себе душевных сил согласиться с ним и обвинить его в ошибках, совершенных из любви, обвинить его в том, что он – «дурак, который любит».
Мне кажется, я очень хорошо его понимаю. Я знаю теперь, что под ошибками «старого человека» он имел ввиду именно ошибки человека любящего. Я не могу сердиться на него, никогда не стану поддерживать тех, кто считает его дураком или злодеем. Мне кажется, необходимо помнить, что даже роман о «положительно прекрасном человеке» в момент, когда Достоевский только формировал свою идею, уже носил название «Идиот». Мне кажется, необходимо понимать, что это – мнение не автора о своем герое.
Люди, которые не прошли бы мой экзамен, сейчас меня не поймут.
Объяснять же остальным не вижу абсолютно никакого смысла. Все предельно ясно. Очень просто и больно одновременно.
Дамблдор держит свое обещание – после того, как он закончил, Гарри делает, что хочет – в полном молчании сидит в его кабинете – и Директор его не останавливает. Портреты молчат. Школа проснулась. Гарри пытается справиться с чудовищным монстром в груди, опасаясь дышать и шевелиться, чтобы его не вспугнуть, чтобы не расплескаться. Мальчику немного легче делать это именно тут, в кабинете Директора, где боль становится чуть покорнее, смиреннее и чище – открытой раной тихо и грустно блестит на ярком, бесстрастном летнем солнце.
Дамблдор посвящает его действиям в Финале невероятно большую часть своих объяснений, хотя Гарри всего лишь спрашивает у него, откуда ему известно о предательстве Кикимера – и Снейп к этому не имеет абсолютно никакого отношения.
Имя всплывает вновь, когда Гарри взрывается от слов Дамблдора об отношении Сириуса к Кикимеру:
- Не говорите так о Сириусе! А что о Снейпе? Вы о нем не говорите, да? Когда я сказал ему, что Сириус у Волан-де-Морта, он только поглумился, как обычно –
- Гарри, ты знаешь, что у профессора Снейпа не было выбора, кроме как притвориться, что он не воспринимает твои слова всерьез, перед Долорес Амбридж, – непреклонно произносит Дамблдор, – но, как я объяснил, он проинформировал Орден о том, что ты сказал, так быстро, как было возможно.
- Именно он, – продолжает Дамблдор, – вычислил, куда вы отправились после того, как не вернулись из Леса. Также именно он дал профессору Амбридж поддельную Сыворотку Правды, когда она попыталась заставить тебя раскрыть местонахождение Сириуса.
Дамблдор защищает Снейпа с неподдельной трогательностью – даже Сыворотку припоминает. Все дело в том, что Директору, потратившему столько усилий для того, чтобы между Гарри и Снейпом образовалось хоть что-то, напоминающее нормальные отношения, хочется, чтобы Гарри ненавидел Снейпа, еще меньше, чем чтобы Гарри ненавидел Кикимера. Отношения между Гарри и Кикимером, между Гарри и Снейпом стратегически важны, да, но, кроме того… Директору просто по-человечески хочется, чтобы упрямые мальчики наконец поладили.
Гарри его не слышит. Он чувствует ожесточенное удовлетворение, виня Снейпа, это облегчает его собственную боль.
- Снейп – Снейп подстрекал Сириуса покинуть дом – он выставлял Сириуса трусом –
- Сириус был слишком взрослым и умным, чтобы позволить таким ничтожным насмешкам ранить его, – перебивает Дамблдор, ясно давая понять, как относится к действиям Снейпа – но и к действиям Сири тоже. Он считает глупым обижаться на подколы Снейпа, он не соглашается с Гарри.
Дамблдор просто не может позволить себе сделать это, как бы сильно Гарри ни желал от него обратного; он не может позволить себе лгать – Гарри и самому себе тоже. Снейп здесь вовсе ни при чем. Он знает: «У него Бродяга!» – было криком Гарри о помощи, разящей, отчаянной просьбой. Мигом, когда мальчик полностью открылся и доверился ему – и Снейп откликнулся, он услышал, он понял. Не смог уберечь – но очень старался. Потому что понял, как это важно для Гарри. Он пытался спасти Сириуса не ради Сириуса, он пытался помочь Гарри.
Эти круги – они начали расходиться от Лили, от Дамблдора, от Гарри… Нет, Дамблдор не может подыграть мальчику и обвить Снейпа только затем, чтобы Гарри стало легче и комфортнее. Снейп сделал все, что мог. Он выполнил обещание Дамблдора («…вы найдете также, что в Хогвартсе всегда будет предоставлена помощь тому, кто о ней просит») – если бы он не поднял Орден, всех детишек забили бы к чертовой матери. Он повел себя лучше всех этой ночью.
- Снейп перестал давать мне уроки Окклюменции! – выплевывает Гарри. – Он выкинул меня из своего кабинета!
- Мне об этом известно, – тяжело и весомо отвечает Дамблдор и сразу же переводит удар на себя, заметно прокалываясь: – Я уже сказал, что это было моей ошибкой не учить тебя самостоятельно, хотя в то время я был уверен, что не может быть ничего более опасного, чем открывать твой разум Волан-де-Морту еще больше, пока ты находишься в моем присутствии –
Дамблдор, конечно, волнуется, поэтому и позволяет себе проболтаться – уроки были направлены на открытие, а не закрытие разума – но уж слишком болит эта тема – погони за возможностью примирить Гарри и Снейпа и той катастрофы, коей все обернулось. Уж в чем-чем, а в этом Снейп виноват меньше всего – хотя предельно ясно, что Директору не стоит сейчас напоминать Гарри о том, что в ситуации с Омутом вовсе не Снейп повел себя, как свинья.
«…в то время я был уверен…» – произносит Дамблдор, теперь зная, что было кое-что еще опаснее – смерть крестного Гарри, например. Надо, надо было таки дать Тому возможность вселиться в мальчика раньше, но Дамблдор боялся, не зная, в какую сторону мог бы тогда решиться вопрос связи, не желая мучить Гарри, не решаясь проверить, сможет ли он справиться с Реддлом внутри. Кстати, очень может быть, что Гарри бы не сумел.
Возможно, с точки зрения каких-то высших и очень жестоких мистических законов смерть Сири была необходима, чтобы Гарри справился – не на это ли указывает Директор, отмечая, что боль, «страдания такой силы доказывают, что ты все еще остаешься человеком»? Только благодаря этой боли Гарри удалось изгнать из себя Реддла. Только с ее помощью Гарри вытолкнул Тома из сознания. Не было бы этого – кто знает, как решился бы вопрос. Все к лучшему в этом лучшем из миров, не так ли? И не дай вам Мерлин когда-нибудь понять, как приходят к таким выводам.
- Снейп сделал только хуже, мой шрам всегда болел после уроков с ним --, – продолжает настаивать Гарри. – Откуда вы знаете, что он не пытался размягчить меня для Волан-де-Морта, облегчить ему задачу проникнуть в мою –
Вновь – уже громче, гораздо громче, чем в прошлом году – из уст Гарри вырывается этот страшный вопрос. Вопрос веры. Через год он приведет к краху, через год он станет ребром между Гарри и Дамблдором – знает ли об этом Директор? Он определенно понимает, что мысли Гарри движутся не в том направлении, и это может быть опасным – но он, увы, не в силах пока ничего сделать. Он связан обещанием. Он повторяет еще раз:
- Я доверяю Северусу Снейпу.
Но Дамблдор, конечно, не был бы Дамблдором, если бы, прямо не нарушая данного обещания, но никак не противореча своим намерениям на сей счет, не попытался намекнуть Гарри, что все не так просто – не дал бы подсказку, почему вообще Снейп ведет себя так, что Гарри кажется, будто ему нельзя доверять:
- Но я забыл – еще одна ошибка старого человека – что некоторые раны лежат слишком глубоко, чтобы их вылечить. Я думал, профессор Снейп смог преодолеть свои чувства к твоему отцу – я был не прав.
Гарри этого не слышит («Но это нормально, да? Это нормально для Снейпа ненавидеть моего отца, но это ненормально для Сириуса ненавидеть Кикимера?»). Намек, меж тем, настолько непрозрачен, что в кабинете, освещенном рассветным солнцем, становится аж темно – худшее воспоминание Снейпа, отвратительная выходка Гарри, ненависть Гарри, ненависть Снейпа к мальчику и его отцу – и все же – все же – поддельная Сыворотка, поднятый по тревоге Орден, Снейп, рыщущий в темноте по кишащему беспокойными кентаврами и Гроххом Лесу в поисках Гарри… Неужели так сложно было догадаться, что подобному разрыву между чувствами и поведением существует глубинное, невероятно сложное объяснение?
Гарри этого не понимает. Дамблдор – не может сказать.
- Сириус не ненавидел Кикимера, – произносит он, навсегда уводя Гарри от Снейпа в этом разговоре, и продолжает молчать о его тайне, да и Гарри все равно в этот миг – он уже решил для себя и вряд ли так быстро и просто изменит мнение.
Меж тем, Дамблдор вновь переводит вину на себя – это его ошибка – то, как закончились уроки Окклюменции, и то, что из этого вытекло, это он не был прав. Из уважения к чувствам Снейпа он разрешает ему не продолжать уроки, он вообще не заводит разговор об их продолжении. Действительно – ошибка старого человека…
Чувства Снейпа не менее дороги Директору, чем чувства Гарри, и любит он его никак не меньше, чем любит Гарри. Дамблдор понимает, что то воспоминание – живая рана – уж раз даже Гарри сгорает от боли при виде всей той сцены, можно себе представить, что чувствует Снейп – и Дамблдор… он очень тактичен с ним. Нельзя сказать, что он сделал это специально, с плохими намерениями, но в конце концов получается, что ради Снейпа Дамблдор пожертвовал и Окклюменцией, и Гарри, и Сириусом, и едва ли не всей Игрой.
Конечно, у него была надежда, что большие и маленькие мальчики все сумеют решить между собой – он думал, что Люпин поможет Снейпу побороть эту гордость, но Снейп ведь непробиваемый чертов кремень. Гарри, конечно, отчасти прав – Снейп виноват в этом разрыве контакта с мальчиком, но – лишь отчасти. Впрочем, я уже писала об этом.
Дамблдор понадеялся и на Гарри, опустив Игру на его плечи (и плечи Снейпа, который самоудалился, да как же его винить в этом?), допустил свое устранение из замка и оставил мальчика одного. А Гарри просто запаниковал. Если бы не Снейп, вовремя – и, чего уж тут, благодаря Люпину – более-менее взявший себя в руки, пусть и в самый последний момент, Министерство в ту ночь превратилось бы в детское кладбище. Так полагает Дамблдор, признавая свою вину, и, вероятно, в какой-то мере он прав.
- …потому что Кикимер был живым напоминанием о доме, который Сириус ненавидел, – заканчивает Директор свои заметки к теме сложных взаимоотношений Звезды и несчастного домовика.
- Да, он его ненавидел! – голос Гарри ломается. Он поднимается на ноги и принимается бесконтрольно мерить шагами кабинет. Как же все-таки они с Директором близки – и как трогательно это видно даже здесь. Ну в чьем еще кабинете Гарри позволил бы себе так себя вести? – Вы заставили его оставаться запертым в этом доме, а он его ненавидел, поэтому он хотел выбраться прошлой ночью –
- Я пытался сохранить ему жизнь, – тихо говорит Дамблдор.
Гарри попал ему в самое сердце. Его совесть приобретает отчетливый вид одной наглой, громкой, страдающей, бушующей, но несомненно правой очкастой физиономии.
- Людям не нравится, когда их запирают! – яростно возражает Гарри, вновь ударяя в цель и вовсе не замечая этого (великий Мерлин, поразительная тактичность!). – Вы делали так со мной все прошлое лето –
Дамблдор закрывает глаза и прячет лицо в ладонях.
Гарри, Сириус, Трелони, Ариана… по всей видимости, подобный способ попытаться избежать проблем и беды – это у Директора… мм… как бы сказать… выработанное наследственное. Иногда это работает. Но в моменты, когда не работает, Директор получает по полной программе – от собственной совести, от очкастого ее проявления, от любимого сотрудника, собственного брата…
Но, наверное, так всегда бывает – люди набираются поразительного красноречия и мигом оказываются рядом только тогда, когда ты ошибаешься. В жизни Дамблдора эти ошибки, к сожалению, целиком под стать ему – велики.
Великие люди притягивают к себе удары судьбы, как высокие деревья – молнии. Он должен быть сильным (а то Гарри, некоторое время назад готовый покусать его за его спокойствие, теперь хочет разорвать его за его слабость и печаль). Он должен продолжить этот разговор, он избегал его слишком долго. Можно сколько угодно еще рассуждать о Сири, Кикимере, Снейпе и прочих, любыми способами тянуть время – но Директор знает: сейчас или никогда. Ему нужно быть жестоким еще один раз.
Он опускает руки и глядит на Гарри поверх очков-половинок:
- Пришло время рассказать тебе то, что я должен был рассказать тебе пять лет назад, Гарри. Пожалуйста, присядь. Я собираюсь рассказать тебе все. Я прошу лишь немного терпения, – «Помоги мне сделать это», – у тебя будет шанс бушевать и злиться на меня – делать все, что ты захочешь – когда я закончу. Я не остановлю тебя.
Некоторое время Гарри свирепо смотрит на него (прям так и вижу, как то же периодически проделывает в кабинете Директора Снейп; так что у Дамблдора запас волшебных фраз для успокоения особо буйных мальчиков за эти годы выработался, мягко говоря, достаточно обширный), однако делает над собой усилие, садится на место и затихает.
Опустим, что Дамблдор рассказывает Гарри настолько «все», что я до сих пор ответы ищу, и сосредоточимся на том, что он все-таки говорит.
А говорит он вещи, мне-сегодняшней хорошо уже понятные, невероятно даже очевидные – но в сердце Гарри они оставляют еще большую пустоту и смятение. Когда я впервые читала это «все» Директора, мне казалось, что я упускаю что-то огромное и невидимое в этом стройном и ладном рассказе, но списывала все на свой возраст, на то, что мне это кажется. Что ж. Лучше поздно…
Дамблдор начинает с объяснения, почему Гарри должен был жить с Дурслями и возвращаться к ним хотя бы раз в год (аккуратно замалчивая, почему же Гарри проторчал у маглов все прошлое лето – и правильно делая, а то бы Гарри, услышав о Сириусе и прочих нюансах подобного решения Дамблдора, снова бы начал кричать, от чего Директор и так уже порядком устал).
Причины эти я освещала наиболее подробно, когда писала о Финале Игры-4, и нет нужды делать это снова. Можно лишь остановиться не на магии, а на психологии, добавив, что подобное решение Дамблдора (оставить Гарри у маглов) было не идеальным, а именно оптимальным. Он не мог знать заранее, сколько в Гарри от Тома и какая часть окажется сильнее, поэтому риск того, что Гарри, воспитанный так, как его воспитали, может озлобиться так же, как Том, всегда существовал.
Однако условия, в которые был помещен Гарри, все же отличаются от условий, в которых вырос сирота-Том – Дурсли знали, что Гарри – волшебник, Петунье, конечно, было страшно, но, поскольку она выросла рядом с волшебницей-сестрой, все это не являлось для нее таким инфернальным, каким оно было для детдомовского окружения Тома.
Тома боялись, столкнувшись с чем-то неизведанным, и это делало его особенным, наделяло властью. А Гарри ругали за магию изо всех сил, так что он переживал из-за своей ненормальности и опасался, вдруг она снова проявится. Здесь дело не в озлобленности, которая равновероятна в этих условиях, а в профилактике развития осознания себя высшим существом.
Гарри нельзя было отдавать в семью волшебников, ибо слава могла его развратить. Гарри нельзя было отдавать в семью нормальных маглов, иначе бы мальчика тоже начали бояться, как Тома, делая исключительным.
Кроме прочего, Гарри находился под постоянным наблюдением («…а я смотрел за тобой более пристально, чем ты можешь себе представить…») – в том числе, вероятно, на случай, если вдруг способности Гарри проявятся так рано и сильно, как у Тома (чего не произошло; полагаю, в том числе и потому, что Петунья и Вернон ругали мальчика за магию), и Гарри решит ими воспользоваться с целью устранения родни. Возможно, на этот случай было предусмотрено вмешательство (потом, кстати, Гарри вполне себе третирует родственников магией, но это уже не является ключевым для формирования характера и самоосознания).
Риски, конечно, были, но все прошло нормально, и в 11 лет Гарри ввели в мир, где его способности уже не были исключительными (и не переставали устами Снейпа громко об этом напоминать), а по сравнению с той же Гермионой являлись даже весьма посредственными, а тому, в чем Гарри действительно был исключителен, уже сформировался противовес в виде 10-летнего воспитания в черном теле. На мой взгляд, комбинация блестящая, как бы ни вопили на сей счет разнокалиберные господа знатоки педагогики.
Итак, Дамблдор рассказывает подростку о защите крови и дома (открыв Гарри Америку тем, что признается, что это он прислал Петунье Громовещатель после летнего вояжа дементоров на Тисовую, и велосипед, указав на то, что Петунья – ненавидя, не желая этого, все же приняла Гарри в семью); об ошибке Тома, который не рассчитал последствия древней магии, которую он презирал, ошибке Тома, который не верил, что это вообще возможно – роковая для него жертва Лили – ибо то, на что способна мать, действительно невозможно предвидеть; он рассказывает Гарри о гордости, которую испытывал в конце первого года обучения мальчика, второго… он говорит о провале своего превосходного плана, о ловушке, которую предвидел, которой мог бы избежать – и должен был это сделать.
Он упоминает о том, как «издалека наблюдал» за третьим годом обучения Гарри, говорит о четвертом, повторяет, что не смог себя заставить избежать этой чудовищной ловушки – и наконец, собравшись с силами, подходит к главному:
- Волан-де-Морт пытался убить тебя, когда ты был ребенком, из-за пророчества, которое было сделано незадолго до твоего рождения.
Дальше говорить все легче. Он объясняет, что Том не знал полного содержания пророчества, стремился узнать его, чтобы уничтожить Гарри – и, наконец, признается, что шар, разбившийся в Отделе, был всего лишь записью пророчества, которое сделали – ему.
- Холодной, промозглой ночью 16 лет назад, в комнате над баром в трактире «Кабанья Голова». Я пришел туда увидеться с претендентом на должность преподавателя Прорицаний, хотя это было против моего намерения разрешать продолжить преподавание предмета и вовсе. Претендент, однако, была праправнучкой очень известной, крайне одаренной прорицательницы, и я подумал, что будет обычной вежливостью встретиться с ней. Я был разочарован. Мне показалось, что у нее нет и следа дара. Я сказал ей, надеюсь, учтиво, что не считаю ее подходящей к должности. Я повернулся уйти.
Хорошая такая цена за «обычную вежливость» – то ли дар небес, то ли проклятье.
Дамблдор переносит Омут Памяти на свой стол, добавляет в него свою мысль и со вздохом тыкает палочкой в серебряную субстанцию – нелегко дается правда. Но он уже ступил на этот путь.
- Тот, у кого будет сила побороть Темного Лорда, приближается… – потусторонним голосом извещает кабинет фигура восставшей из Омута Сибиллы Трелони. – Рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца… и Темный Лорд отметит его, как равного, но у него будет сила, которой Темный Лорд не знает… и один должен умереть от руки другого, потому что ни один не может жить, пока жив другой… тот, у кого будет сила победить Темного Лорда, родится на исходе седьмого месяца…
После мига оглушающей тишины Гарри непонимающе спрашивает только:
- Профессор Дамблдор? Это… это значило… что это значило?
Сколько раз Директор, объясняющий Гарри значение слов Трелони, слушал это пророчество? Он знает его наизусть, он досконально изучил каждый вариант трактовки.
- Странность в том, Гарри, что пророчество могло иметь ввиду вовсе не тебя.
Дамблдор очень тяжело вздыхает. Он отмечает, что под описание мальчика, родившегося в конце июля, подходит не только Гарри, но и Невилл.
Гарри кажется, будто что-то захлопывается над ним с оглушительным треском – он пытается вырваться, пытается найти выход, пытается убедить вселенную в том, что, возможно, ей нужен Невилл, пытается доказать, что Реддл ошибся.
- Боюсь, – медленно произносит Дамблдор, будто каждое слово доставляет ему жуткую боль, – что нет сомнения в том, что это ты, Гарри <…> Волан-де-Морт сам отметит его, как равного <…>. Он увидел в тебе себя прежде, чем увидел тебя, и, отметив тебя этим шрамом, он не убил тебя, как намеревался, но дал тебе силы и будущее, которые помогли тебе спастись от него не один раз <…>.
Это не должен был быть Гарри. Но Гарри стал тем, о ком было сделано пророчество, благодаря Реддлу, который выбрал мальчика и дал ему силу, которая ему неизвестна, и дал ему Дамблдора, обеспечившего будущее Гарри так, что пророчество стало сбываться.
Потому ему так тяжело – он не станет признаваться, однако в том, что Гарри уготовано, виноват и он сам – они с Реддлом сделали это – по-разному, для разных целей, с разными намерениями, но – вместе.
Дамблдор знает пророчество наизусть. Он сверяет с его текстом все свои действия в Большой Игре, он пользуется им и его толкованием, как подсказкой. Классический эффект Пигмалиона, в который попадается Том, в который, в конечном счете, попадается и Гарри (ведь Дамблдор разъясняет Гарри пророчество так, как надо) – психологический феномен, заключающийся в том, что ожидание личностью реализации пророчества во многом определяет характер ее действий и интерпретацию реакций окружающих, что и приводит к самоосуществлению пророчества.
Есть там одна крайне любопытная строчка: «…either must die at the hand of the other for neither can live while other survives…» – и переводить ее можно очень по-разному.
Можно в классическом смысле: «Один должен умереть от руки другого, потому что ни один не может жить, пока жив другой», – если воспринимать слово «either», как английский аналог словосочетания «один из». Но ведь имеется и иной перевод – «каждый».
Соответственно, «neither» можно понимать, как «ни тот, ни другой», а можно – и как «никто».
Первый вариант толкования ставит очень узкие, напугавшие Гарри рамки – Гарри должен либо погибнуть, либо стать убийцей. Второй кажется еще более однозначным: погибнуть должны оба.
И именно по этому поводу Дамблдор не говорит ничего конкретного (да Гарри и не сильно спрашивает), отвечая лишь: «Это значило, что тот, у кого есть единственный шанс навсегда победить Волан-де-Морта, был рожден в конце июля почти шестнадцать лет назад у родителей, которые к тому времени трижды бросали вызов Волан-де-Морту».
Есть шанс, понимаете ли… Ни слова – ни единого – об этой строчке пророчества. Гарри сам все понимает (как-то), и Директор его не переубеждает.
Ибо мастерить реальность так, чтобы пророчество сбылось само – задача очень тонкая. Повезло еще, что Том Дамблдору в этом деле активно помогает с первой же секунды – не только отмечая Гарри, как равного себе, но и отдавая ему силу, о которой не знает – и подпитывая другую силу Гарри, о которой знает и которую презирает, при каждой буквально встрече.
Ибо часть о том, что «Темный Лорд отметит его, как равного» и так далее, Снейп, обнаруженный Аберфортом, пропустил. Том, отправившись убивать именно Гарри, думал, что выполняет условия пророчества, он не представлял, какую опасность таят в себе его действия, а потому даже не подумал подождать, пока Гарри и Невилл вырастут, чтобы решить, кто для него хуже. Он сам выбрал себе равного, сам дал Гарри силу.
Дамблдор описывает момент с выдворением одного из «так скажем, более интересной клиентуры, чем в «Трех Метлах» из паба довольно подробно, обстоятельно и хладнокровно. Разумеется, он всецело контролирует разговор, да и Гарри сейчас находится вовсе не в том состоянии, чтобы докапываться, кем был тот шпион Реддла.
Однако Снейп мелькает в опасной близости от истории с пророчеством уже не в первый раз за последние сутки – еще Малфой перед началом битвы в Министерстве, кажется, еще немного – и точно проболтался бы. Всем трем сторонам – Пожирателям, Дамблдору, Снейпу – неимоверно повезло, что до упоминания его имени всуе в контексте этой истории Гарри так и не доходит. Но, черт побери, как же все-таки елозит по ушам этот монолог Директора о некоем таинственном соглядатае, которого выкинули из «Кабаньей Головы» «взашей»…
- …он не знал, что у тебя появится сила, о которой Темный Лорд не знает –
- Но у меня ее нет! – в отчаянии произносит Гарри. – У меня нет никаких сил, которых нет у него, я не умею сражаться, как он делал сегодня, я не умею завладевать людьми или – или убивать их –
- В Отделе Тайн есть комната, которая держится закрытой во все времена, – перебивает Дамблдор. Гарри думает не в ту сторону. Все еще. – Она содержит силу, которая одновременно более прекрасна и более ужасна, чем смерть, чем человеческий разум, чем силы природы. Она также, возможно, наиболее таинственна из всех предметов для изучения, которые находятся там. Именно силой, которая содержится в той комнате, ты обладаешь в таком количестве, а Волан-де-Морт и вовсе ее лишен. Эта сила повела тебя спасать Сириуса сегодня ночью. Эта сила также спасла тебя от того, чтобы оказаться во власти Волан-де-Морта, потому что он не мог вынести нахождения в теле, столь полном силы, которую он ненавидит. В конце концов, не имело значения, что ты не сумел закрыть свой разум. Тебя спасло твое сердце.
Страшная сила. Любовь.
Гарри закрывает глаза. Он думает: если бы он не бросился спасать Сириуса, Сириус бы не умер… Шок от услышанного пророчества больше ничего не значит. Боль при мысли о Сириусе душит все остальное – ничто больше не имеет значения. Дамблдор прав – эта сила… она заставляет оставаться человеком – но и уничтожает в ничто, разрывает сердце, прожигает горло…
- Конец пророчества, – спрашивает Гарри, чтобы оттянуть момент, когда мысли о Сири вновь заполнят душу, но совершенно не интересуется ответом, – там что-то о… ни один не может жить…
- Пока жив другой, – помогает Дамблдор. Сколько же раз он слушал все это? Сколько лет провел в этой муке?
- Так… так это значит, что… что одному из нас придется убить другого… в конце?
- Да, – говорит Дамблдор.
«И нет», – молчит Дамблдор. Но сейчас не время, нет. Не думаю, что он и сам уверен.
Директор и мальчик молчат бесконечно долгое время. Где-то внизу, слышит Гарри, на завтрак торопятся первые студенты – они не знают, и им все равно, что Сириус умер.
Гарри кажется, что Сириус в миллионе миль от него – и все еще, иррационально и глупо, верится, что стоило добраться до той вуали, отвести ее в сторону, чтобы увидеть его опять – смеющимся своим хрипловатым смехом и вновь бросающимся в битву…
Почему Дамблдор тянул с Окклюменцией до самого последнего момента?
Я довольно долгое время не могла найти ответ на этот вопрос и все пыталась понять, что же хотел сказать Дамблдор в своей Финальной речи, а потом вдруг поняла: он хотел сказать то, что сказал.
«Я ошибся», – раз за разом повторяет Директор.
Он самым подробным образом, спокойно и просто объясняет, в чем видит ошибку своего прекрасного плана: «Ты был слишком дорог мне. Твое счастье было для меня важнее, чем твое знание правды, твое душевное спокойствие – дороже моего плана, твоя жизнь – ценнее тех жизней, которыми, возможно, пришлось бы расплатиться за провал этого плана. Другими словами, я действовал именно так, как Волан-де-Морт ожидает от нас, дураков, которые любят. Есть ли защита? – Нет. – Я бросаю вызов любому, кто наблюдал за тобой, как я – а я смотрел за тобой более пристально, чем ты можешь себе представить – не хотеть оградить тебя от еще большей боли, чем ты уже пережил. Какое мне было дело до безымянных и безликих людей и существ, убитых в неясном будущем, если здесь и сейчас ты был жив, здоров и счастлив? Я никогда не мечтал, что у меня на руках окажется такой человек».
Жуткая сила. Любовь.
Дамблдор говорит как бы о пророчестве, но на самом деле эти слова в той же мере относятся и к Окклюменции, уж очень эти темы взаимосвязаны, и, начав разговор об одном, Дамблдор неминуемо был вынужден рассказать и о другом. Он вновь и вновь, даже когда Гарри не спрашивает, обращается мыслями к Снейпу. Он ищет сил и в нем тоже.
Он – всего лишь человек, любящий и добрый. Он просто не мог заставить себя поговорить с Гарри раньше, потому что рассказывать пришлось бы слишком много, включая якобы предопределенный пророчеством Финал (как его ни переводи – печальный).
Даже после операции «Змея», когда, казалось бы, необходимость что-то делать стала очевидной и острой – он посылает объясняться с Гарри Снейпа, он уверяет себя, что выходить с мальчиком на прямой контакт опасно для Гарри из-за Реддла – конечно, это так; но есть еще причина, и я ее уже озвучила.
Вздумай Дамблдор заняться с Гарри Окклюменцией до возрождения Реддла, неудобных вопросов было бы куда больше. И ответы на них неминуемо бы означали для Гарри конец детства. Дамблдор просто не сумел заставить себя раньше времени взвалить на плечи мальчика тяжелую взрослую ношу.
Думается мне, он осуждает себя за это даже слишком строго. Он превращает Финальный разговор Игры Года в свое покаяние и справляется с этим со всей возможной жесткостью – и даже жестокостью – к себе. «Я ошибся, я был неправ… нас, дураков, которые любят…» – снова и снова повторяет Директор. Он ведь полностью винит себя в том, что произошло – в смерти Сири, в провале оттепели отношений Гарри и Снейпа, в том, как себя чувствовал Снейп, Гарри, как разрывается теперь сердце Люпина, потерявшего друга, едва успев его обрести…
- Я чувствую, что должен тебе еще одно объяснение, Гарри, – нерешительно произносит Дамблдор. – Ты мог, возможно, спрашивать себя, почему я так и не выбрал тебя старостой? Я должен признаться… я думал… на твоих плечах лежало достаточно ответственности.
Впервые за очень долгое время Гарри поднимает на него взгляд. Слеза прячется в его длинной серебряной бороде.
Разумеется, для Дамблдора смерть Сириуса и боль Гарри – это огромное личное горе. Возможно, он прав, и в том, как закончилась Игра Года, есть его ошибки. Но имеет ли Гарри право согласиться с ним? Имеет ли он право вслед за Директором винить его – если Директор так любит Гарри?
Лично я бы сказала Дамблдору: вы сделали все. Вы показали замечательную Игру. Что-то не получилось. В следующий раз получится лучше. Большинство ваших ошибок можно исправить, это значит, что вы не ошиблись.
Меня до сих пор поражают люди, которые считают его жестоким злодеем или дураком. Я годами наблюдаю, как эти люди громко высказывают Свое Мнение, каждым словом все больше подтверждая свою глубокую умственную и нравственную инвалидность. Они ничего не понимают в жизни, если готовы сравнить Дамблдора едва ли не с Волан-де-Мортом и Грин-де-Вальдом в одном лице.
Я бы – как бы помягче это сказать? – в очередной раз скопипастила бы Анну и ввела этим людям один простой экзамен на право называться sapiens – сначала объяснить смысл слов Директора о том, что Гарри был ему слишком дорог. Объяснить так, чтобы было видно, что есть глубинное понимание. Не получилось не скатиться в «Да Он Просто Манипулировал И Лгал, Чтобы Гарри Выполнил Для Него То, Что Он Хочет», – иди и, как говорил еще один великий, страдай. И не доставай других людей своим стремлением красиво выразить Мнение души откровенно, позорно темной.
Я даже подумывала сгоряча, что открывать доступ к моим записям по Игре следует после такого же экзамена. Но потом решила, что это уж слишком. Вдруг кто-то прочитает и поймет. Хотя бы двое из десяти. Игра – искусство все же.
Дамблдор любит Гарри так сильно, что от этого становится больно. Я не нахожу в себе душевных сил согласиться с ним и обвинить его в ошибках, совершенных из любви, обвинить его в том, что он – «дурак, который любит».
Мне кажется, я очень хорошо его понимаю. Я знаю теперь, что под ошибками «старого человека» он имел ввиду именно ошибки человека любящего. Я не могу сердиться на него, никогда не стану поддерживать тех, кто считает его дураком или злодеем. Мне кажется, необходимо помнить, что даже роман о «положительно прекрасном человеке» в момент, когда Достоевский только формировал свою идею, уже носил название «Идиот». Мне кажется, необходимо понимать, что это – мнение не автора о своем герое.
Люди, которые не прошли бы мой экзамен, сейчас меня не поймут.
Объяснять же остальным не вижу абсолютно никакого смысла. Все предельно ясно. Очень просто и больно одновременно.
Дамблдор держит свое обещание – после того, как он закончил, Гарри делает, что хочет – в полном молчании сидит в его кабинете – и Директор его не останавливает. Портреты молчат. Школа проснулась. Гарри пытается справиться с чудовищным монстром в груди, опасаясь дышать и шевелиться, чтобы его не вспугнуть, чтобы не расплескаться. Мальчику немного легче делать это именно тут, в кабинете Директора, где боль становится чуть покорнее, смиреннее и чище – открытой раной тихо и грустно блестит на ярком, бесстрастном летнем солнце.
