БИ-7
Глава 38
Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора
Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора
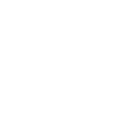
- Спасибо, – Гарри принимает чай из рук Гермионы.
- Не возражаешь, если я с тобой поговорю? – вежливо спрашивает она.
- Нет, – отвечает Гарри, потому что, человек, ставший взрослым, не хочет задеть ее чувства.
И хвала небесам, что он так отвечает, ибо жизнь в очередной раз выдает ему пряник за то, как он пытается оставаться хорошим:
- Гарри, ты хотел знать, кем был тот человек на фотографии. Ну… у меня есть книга.
Смущаясь, Гермиона аккуратно кладет копию «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора» Гарри на колени. Парень теряет дар речи:
- Где –? Как –?
- Она была в гостиной Батильды, просто лежала там…
Ну, может, книга там и «просто» лежала, но вот Гермиона взяла ее отнюдь не просто так. То есть, я имею ввиду, понятно, что она заинтересовалась нашумевшей книгой – однако, судя по всему, пока Гарри был наверху, девушка успела ее пролистать, причем с совершенно конкретной целью. Видимо, поняв, что фотографии на комоде могли оказаться в руках у Риты, Гермиона пролистывала книгу целенаправленно, ища фото человека, которого Гарри назвал вором. На ход Игры сей маленький вывод, конечно, совершенно не влияет, но мне просто приятно лишний раз отметить уровень активности соображательной штуковины Гермионы, ее внимательность, а также склонность прислушиваться к тому, что волнует Гарри (хотя в попытках достучаться до «Батильды» парень и орал достаточно громко, так, что, сложно было как раз не услышать).
- Эта записка торчала из нее, – заканчивает Гермиона, зачитывая строчки, выведенные зелеными чернилами: – «Дорогая Батти, спасибо за помощь. Вот экземпляр книги, надеюсь, тебе понравится. Ты сказала все, даже если не помнишь этого. Рита». Я думаю, книга прибыла, когда настоящая Батильда была жива, но, возможно, она была не в состоянии прочитать ее?
Что ж, судя по тому, что корешок книги остается гладким и нетронутым, Гермиона права, книгу действительно не читали. И, похоже, Батильда действительно разговаривала с Ритой, будучи уже сильно не в себе – дом выглядел так, словно никто не ухаживал за ним многие месяцы, а возможно, и годы, в спальне Батильды под кроватью стоял ночной горшок, что так же не указывает на ее превосходное самочувствие при жизни (не Нагайна же горшок для себя притащила).
Более того, в стройных рядах рамочек на комоде отсутствовало шесть фотографий, которые, очевидно, вошли в книгу – и я сильно сомневаюсь, что Рита спрашивала хозяйку, можно ли их взять. Скорее всего, Батильда даже не заметила пропажу.
Наконец, и Мюриэль, и давшие ряд комментариев Рите соседи Батильды Айвор Диллонсби и Энид Смик сходятся на одном и том же: Батильда помешалась умом. Правда, используют они для описания ее состояния самые разные эпитеты, будто бы соревнуясь, кто обзовет ее похлеще, но оставим это на их совести.
Грустно просто осознавать, что некогда знаменитая, блестящая волшебница вынуждена была доживать жизнь в одиночестве, судя по всему, без какой-либо помощи, зато посреди нескончаемых насмешек. Хотя мне не верится, что Дамблдор ей не помогал – все же она была одной из самых старинных его приятельниц (по словам Риты в книге, Батильда сама написала ему, еще школьнику, пораженная его статьей в «Трансфигурации сегодня», и завязавшаяся переписка в конце концов сблизила ее с семьей Дамблдоров, закрытой от остальных соседей в целом). А вот с его смертью ей должно было стать совсем одиноко и невыносимо жить.
Несколько цинично, однако Дамблдор отправил Риту к Батильде за некоторыми деталями для книги, после чего, понимая, что с Батильдой все кончено, и это лишь вопрос времени, отдал ее Реддлу без боя. Это облегчило ее страдания. По-моему, так.
Меня утешает мысль о том, что Рите, судя по всему, хватило такта быть милой с Батильдой в период их встречи или встреч. Да, она открыто признается, что говорила с ней не по ее чистой воле (сперва: «Ты сказала все, даже если не помнишь этого», – затем читаем в книге: «Тем не менее, комбинация надежных и проверенных методов взятия интервью…» – и: «…насчет одной темы, тем не менее, Батильда однозначно оправдала усилия, которые я потратила на то, чтобы добыть Сыворотку правды…» – интересно, кстати, где Рита Сыворотку добыла? не у Снейпа ли? тогда усилия и впрямь были колоссальными), однако мне нравится то, что Рита называет ее «Батти» в своей записке (впрочем, не удержавшись от приколов в типично своем стиле: «Вот экземпляр книги, надеюсь, тебе понравится», – как я поливаю грязью твоего друга, ага).
Между прочим, так она зовет Батильду и в книге – на сей раз, заключая прозвище в кавычки. Это наталкивает меня на мысль, что Рита называет Батильду этим именем вслед за кем-то. Подозреваю, за Дамблдором – за кем же еще? Так и слышу: «Да, Рита, вы можете навестить Батти в Годриковой Впадине, думаю, это вполне приемлемо. Поскольку она не вполне в себе, предупреждаю сразу, вам понадобится быть терпеливой и сдержанной. Обратитесь к лучшим качествам своей натуры. Есть же они у вас. Где-нибудь. Наверное… Как бы то ни было, мне бы хотелось верить, что вы будете с ней максимально обходительны. В противном случае, вам придется столкнуться с моим… м… неудовольствием. Видите ли, Батти – старинная подруга моей семьи. Мы друг друга поняли? Отлично. Обратитесь к профессору Снейпу за Сывороткой правды, это поможет вам в разговоре с Батильдой, скажите ему, что я попросил. Да, и опросите, раз уж будете там, других жителей Годриковой Впадины – по самым разным вопросам, мы же не можем ссылаться на слова одной Батти в каждой главе книги?» Примерно так.
Надо отдать Рите должное – судя по ее обращению к Батильде в записке, а также по тому, как она отзывается о ней в книге, Рита не позволила себе плохое или неуважительное обращение с умирающей беспомощной старухой. Во всяком случае, в лоб (фотографии же кто-то таки украл). И на том спасибо.
Борода Дамблдора отчетливо видна и в том, что Рита, которая удавится за любую копейку, отсылает бесплатный экземпляр книги Батильде, хотя прекрасно знает, что женщина не в том состоянии, чтобы читать что-либо, исключая, возможно, огромные надписи на заборах. Но Рите совершенно не обязательно знать, зачем Директор просит ее поступить столь нелогично – ее дело исполнять.
Со своей стороны Дамблдор прекрасно понимает, что едва ли не единственный шанс для Гарри заполучить книгу, получить которую ему необходимо, чтобы продвинуться по Игре – это как раз умыкнуть ее из дома Батильды. Поэтому книга высылается Ритой в тщательно выбранный период – когда Том покидает дом, подселив в Батильду Нагайну, а заодно и прочно покидает страну, но до или сразу после того, как палатку ребят оставляет Рон.
Ежу понятно, что, раз Директор предвидел, что Рон захочет вернуться, значит, предвидел, и что захочет уйти. Также понятно, что именно Гермиона является тем фактором, который будет сдерживать Гарри от посещения Годриковой Впадины. Понятно и то, что она сломается именно без Рона – примерно к Рождеству. Таким образом, ребята оказываются в Годриковой Впадине очень вовремя – книга уже на месте.
Гарри, мальчик пылкий, с жестоким удовольствием пялится на обложку, на которой миролюбиво моргает изображение Дамблдора, думая примерно в сторону того, что теперь-то он, Гарри, наконец узнает всю правду, вне зависимости от того, хотел этого Директор или нет. Тут можно смело произносить «ха-ха» три раза – по поводу «всей правды», хотения Директора и просто так, потому что Гарри такой молодой и такой смешной – ну вот узнает он так называемую всю и так называемую правду. И что? Почему-то так сильно стремясь к этой правде, Гарри ни разу не дает себе труда задуматься, почему Дамблдор ему ее не раскрывал сам – и что он, Гарри, будет делать с ней, когда получит.
- Ты все еще злишься на меня? – новые слезы текут по лицу Гермионы. Очевидно, она приняла выражение лица Гарри на свой счет.
- Нет, – тихо говорит Гарри. – Нет, Гермиона, я знаю, это была случайность. Ты пыталась вытащить нас оттуда живыми, и ты была невероятна. Я был бы мертв без твоей помощи.
Гермиона приободряется. Вернув ей слабую улыбку и решив, что пора покончить с лирической паузой, Гарри погружается в книгу, к главному герою которой отчего-то способен проявить на порядок меньше терпения и снисходительности. Наверное, оттого, что Гермиона никогда не была для подсознания Гарри сверхродительской фигурой.
Гарри натыкается на фотографию вора практически сразу – молодой Дамблдор на изображении смеется, стоя рядом с красивым молодым парнем, который так же покатывается со смеху. «Альбус Дамблдор вскоре после смерти матери со своим другом Геллертом Грин-де-Вальдом», – гласит подпись к снимку.
Пауза. Спустя несколько долгих мгновений Гарри косится на Гермиону, которая глядит в книгу так, словно не может поверить в то, что видит.
- Грин-де-Вальдом? – Гермиона медленно поворачивает голову к Гарри.
«Другом Грин-де-Вальдом?» – было бы спросить куда лучше. Именно здесь как нельзя кстати заезженная до дыр и трещин популярная фраза «Вот это поворот».
Гарри быстро пролистывает книгу до того момента, в котором упоминается Грин-де-Вальд, и ребята принимаются читать главу под названием «Общее Благо».
Важная такая глава. Интересная. И для продвижения по Игре крайне необходимая. Не увидь Гарри лицо вора в сознании Тома, вряд ли бы он к этой главе в принципе приступил. В цепочку причин, по которой Гарри берется именно за данную главу, удачно, но не спланированно ложатся и фотографии Батильды, обнаруженные ребятами в ее доме, и то, что Гарри увидел именно это изображение в книге Риты, которую взял в руки в кабинете Амбридж еще в сентябре.
Я долго размышляла, не было ли последнее частью Игры. Такова уж неизменная привычка любого, кто годами работает над шифрами, загадками и тайными планами – начинаешь видеть шифры, загадки и тайные планы во всем, что попадается под руку. Однако будем сходить с ума в рамках разумного – Гарри случайно наткнулся на фотографию Дамблдора с Грин-де-Вальдом в книге в Министерстве, и это совпадение не было Игрой, хотя, безусловно, очень хорошо в нее легло – заимев книгу в своем распоряжении, Гарри листает ее, ища конкретно это фото.
Если бы Гарри стащил книгу из кабинета Амбридж (что было маловероятно, ибо таскать с собой ее было парню в тот момент не с руки), Гарри бы узнал, кто этот вор, значительно раньше, однако это не дало бы ему ничего ровно до того момента, как о воре с позволения Дамблдора узнал бы Том. То есть наличие книги в кабинете Амбридж, которую Гарри мог бы пролистать, а мог бы и не пролистать, Игрой не было.
А вот содержание книги в целом и главы «Общее Благо» в частности – за вычетом, разумеется, колкостей и приступов самолюбования Риты, которая явно отрывалась вовсю, занимаясь ее написанием – очень Игра. Временами даже Большая, что, пожалуй, гораздо важнее.
А поскольку Рита, конспектируя правду Дамблдора, присовокупила к конспекту немалую долю своей драгоценной скитернутой человеческой индивидуальности, мне сейчас придется заняться кропотливой работой по отделению мух от котлет с последующим выуживанием из котлет самых вкусных и полезных жилок. То есть рассматривать животрепещущие слова Риты, пропуская через сита правды, доброты и пользы, иногда деля на два, периодически – на три, но всегда – не забывая сравнивать со словами первоисточников, причин и привычек врать у которых не наблюдается.
Ибо есть у меня гипотеза, что свои жизни Дамблдор и Аберфорт проживали лично, а потому не стоит полагаться на книги и слухи, чтобы понять, как именно они их проживали – довольно мюриэльщины и дожества, думаю, сейчас самое время перестать описывать домыслы, почти полгода витавшие вокруг Гарри и непосредственно в его голове. Ибо то, как Гарри из-за этого колбасило, конечно, анализировать весело и поучительно, но за Дамблдора обидно.
Итак, семья Дамблдоров жила в Насыпном Нагорье до момента, когда с шестилетней Арианой случилась беда. По словам Аберфорта, маленькая Ариана, еще не способная контролировать всплески стихийной магии, колдовала на заднем дворе. За ней подсмотрело трое мальчиков-маглов. Они перелезли через садовую изгородь и стали приставать к девочке, чтобы та показала, в чем фокус. «Они немного увлеклись, пытаясь заставить маленького фрика прекратить это делать», – расскажет Аберфорт в мае. Вполне очевидно, что мальчики сделали с Арианой.
Когда Персиваль узнал об этом, он отправился к этим маглам и отомстил им. Я понятия не имею, убил ли он – ни Дож, ни Рита, ни Аберфорт, ни сам Директор не используют это слово, чаще всего они говорят «атаковал» и «совершил нападение». Однако все сходятся на том, что нападение было совершено с чрезвычайной жестокостью. Персиваля посадили в Азкабан, где он и умер, известный как маглоненавистник – потому что отказался и, уверена, запретил семье рассказывать причины своего поступка, иначе бы власти заперли Ариану в больнице святого Мунго в отделении для умалишенных до конца ее дней, как серьезную угрозу нарушения Статута о секретности.
Ибо после нападения мальчиков Ариана повредилась в уме, «она не хотела использовать магию, но не могла от нее избавиться; она обратилась внутрь и сводила ее с ума, вырывалась из нее, когда она не могла этого контролировать, и иногда она была страшной и опасной. Но преимущественно она была милой, напуганной и безвредной», – пояснит Аберфорт.
Есть подозрение, что Ариана превратилась в Обскура – ребенка, вынужденного подавлять свою магию, в результате чего внутри него образуется паразитический сгусток темной энергии, своего рода аморфная хаотическая опухоль. Когда Обскур теряет над собой контроль, он принимает форму Обскури – жидкое темномагическое облако, которое разрушает все на своем пути, чьи размеры и мощь зависят от силы хозяина. Обскур высасывает силы из своих носителей, постепенно сводя их в могилу – редкий ребенок с Обскуром способен дожить хотя бы до десяти лет.
Угомонить Обскури могут, пожалуй, только самые близкие и любимые люди. Для Арианы таким стал Аберфорт («Я был ее самым любимым <…> я мог ее успокоить, когда у нее случались приступы, а когда она была тихой, она помогала мне кормить коз»).
Семья Дамблдоров переехала в Годрикову Впадину, где жила крайне замкнуто, и никто из соседей практически не припоминал историю Персиваля – более того, придумав легенду о болезни Арианы на всякий случай, Кендра постаралась и вовсе скрыть факт ее существования от глазастых соседей. Единственная во всей Годриковой Впадине, у кого установились хоть какие-то теплые отношения с Кендрой, Батильда была поражена, когда однажды ночью случайно увидела, как Кендра делает один круг по двору с Арианой – год спустя после переезда Дамблдоров в Годрикову Впадину.
Примерно в то же время будущий Директор поступил в Хогвартс, однако, признавая, что его отец виновен, никогда не распространялся о причинах, по которым Персиваль оказался в тюрьме, даже близкому другу Дожу. Батильде и кругу самых хороших друзей оба брата Дамблдора и их мать говорили, что Ариана «слишком слаба для школы», когда кто-либо начинал интересоваться жизнью девочки, и любые разговоры на тему быстро сворачивались.
В какой-то мере, конечно, это было домашним заточением, как о нем отзываются Рита и Мюриэль. Однако я уверена, что Ариане было объяснено, почему все так, а не иначе, и она, умная, скромная, добрая девочка, все поняла. За ней с большой любовью и вниманием ухаживали мать и старшие братья – об этом скажет сам Аберфорт («…моя мать присматривала за ней и пыталась держать ее в спокойствии и счастье»), об этом свидетельствует и то, что Ариана дожила аж до 14 лет – и, вероятно, смогла бы прожить еще дольше.
Однако, когда ей было 14, в семье Дамблдоров вновь случилось несчастье – Ариана опять потеряла контроль. Единственный человек, который мог успокоить Обскури-Ариану, Аберфорт, тогда отсутствовал в доме. Видимо, Кендра не успела увернуться («…видите ли, моя мать не была так молода, как прежде…» – станет говорить Аб), и Ариана, не способная себя контролировать, случайно убила мать.
Будущему Директору на тот момент было почти 17, и они с Дожем – с рассказа об этом и начинается глава «Общее Благо» – планировали отправиться в годичное путешествие, таким образом ознаменовав окончание школы. «Двое молодых людей остановились в «Дырявом Котле» в Лондоне, готовясь отравиться в Грецию следующим утром, когда прибыла сова с новостями о смерти матери Дамблдора», – с поразительной точностью в деталях пишет Рита. Можно, я не буду говорить, откуда она взяла эти детали – где остановились, куда собирались, когда прибыла сова – если из двоих людей, которые могли бы ей их сообщить, Дож, как пишет ниже Рита, «отказался давать интервью для этой книги»?
Кстати говоря, еще чуть ниже Рита вновь бросает шпильку в его адрес: «…предоставил общественности свою собственную сентиментальную версию того, что случилось потом. Он описывает смерть Кендры, как трагический удар, а решение Дамблдора отложить поездку, как акт благородного самопожертвования». По всей видимости, шпильки летят в направлении некролога Дожа – однако как это возможно, если он вышел уже после того, как книга была написана? Получается, либо Рита дорабатывала книгу на коленке прямо накануне издания, либо она до этого была знакома с версией Дожа о событиях тех лет. Как так?
А вспомним, что оба швыряются друг в друга шпильками с самого начала Игры Года. Складывается ощущение, что сии баталии за кадром носили крайне продолжительный характер и имеют отношение еще к Игре-6 как минимум. Мог ли Дож, которому Дамблдор явно намекнул, что писать в некрологе, если таковой вдруг случайно потребуется, знать, что именно пишет Скитер? Я полагаю, Дож как минимум – и не без помощи очередной серии намеков Дамблдора – об этом догадывался.
Но я отвлеклась. По крайней мере, все сходятся на том, что Дамблдор немедленно вернулся в Годрикову Впадину – Дож (с благоговейным трепетом), Аб (с громкими фырками и плевками в камин) и Рита (с язвительными комментариями и намеками на). Директор и Дож присутствовали на похоронах Кендры, после чего Дож отбыл в одиночное путешествие, а Дамблдор остался в доме в качестве главы семьи.
Напомню, в своем некрологе Дож открыто признается: это был период, когда он меньше всего общался с Дамблдором – а потому факты по поводу этого интересного времени в его памяти отсутствуют – в то время как Дож в красках описывал свои путешествия, Дамблдор был скуп на описания своей повседневной жизни.
А его повседневная жизнь скатывалась в рутину. 16-летний Аб собирался покинуть школу, чтобы ухаживать за Арианой, однако Дамблдор настоял, чтобы тот продолжил свое обучение. Несколько недель будущий Директор справлялся с Арианой, вероятно, на глазах у Аба, чтобы доказать ему, что сумеет с ней ужиться и без его помощи («Небольшое падение для мистера Блистательного, за ухаживание за полусумасшедшей сестрой в попытках остановить ее от того, чтобы она не взорвала дом каждый божий день, не дают никаких призов. Но несколько недель он нормально справлялся…» – расскажет Аб).
- Меня это возмущало, – открыто и холодно констатирует в разговоре с Гарри лично Дамблдор в мае, говоря о своем отношении к тому, во что превратилась жизнь членов его семьи после смерти Кендры. – Я был одарен, я был выдающимся. Я хотел вырваться. Я хотел сиять. Я хотел славы. Не пойми меня неправильно, – боль снова отразится на лице Директора. – Я любил их. Любил родителей, любил брата и сестру, но я был эгоистом, Гарри, гораздо большим эгоистом, чем ты, который есть самый удивительно самоотверженный человек, какого только можно себе представить. Так что, когда моя мать умерла, на мне лежала ответственность за нестабильную сестру и капризного, своенравного брата, и я вернулся в деревню злым и несчастным. Пойманный в ловушку, теряющий годы, я думал!
Здесь мне стоит, пожалуй, вклиниться сразу же. Я не намеревалась делать это здесь, так скоро, однако так уж получается – даже в этой своей отгоревшей, тающей форме не только Игра развивается людьми, но и сама ими управляет.
Мне очень знакомы чувства 17-летнего Дамблдора, покинувшего школу, как пишет Рита, «в сиянии славы – староста факультета и староста школы, победитель конкурса Барнабаса Финкли за выдающиеся владения заклинаниями, представитель британской молодежи в Визенгамоте, золотой медалист за новаторский вклад в Международной конференции алхимиков в Каире».
Он действительно чувствовал себя в ловушке в своей старой деревеньке, запертый с младшими братом и сестрой. Перед ним был открыт весь мир, любые двери, его знали и почитали в обществе – и вдруг вся его жизнь съежилась до необходимости ухаживать за больным родственником и младшим братом, бурно переживавшим переходный возраст на фоне ранних потерь. Его старый друг Дож высылал красочные описания путешествия, в которое отправился без него (вот чего не могу понять, так не могу – раз договорились ехать вместе, значит, надо было либо ехать вместе, пусть позже, либо не ехать вообще; скорее всего, поехать Дожа уговорил Дамблдор, как уговорил Аба продолжать обучение), которые, я уверена, со временем стали казаться Дамблдору едва ли не издевкой. Он завидовал и жалел себя.
Новые друзья, небось, как оно обычно бывает, растворились. Из людей, с кем можно было бы пообщаться, оставалась старенькая Батильда – но этого, естественно, было мало. Подросток-Дамблдор, потерявший отца, а теперь еще и мать, в страхе перед свалившейся на него депрессией и тем, что, уверена, казалось ему загубленным будущим, чувствовал себя глубоко одиноким и несчастным. Как оно обычно бывает, с самым близким для него человеком, собственным братом, он делиться переживаниями не стал. Отчасти потому, что Аб и сам в ту пору был не сахар (впрочем, и его винить в этом нельзя – ему было не менее тяжело), отчасти – из-за нежелания делать ему еще больнее рассказами о своих чувствах. Это был ужасный, одинокий период в жизни Дамблдора.
Да, он чувствовал злость, досаду, раздражение, может, даже ненависть, подспудно, сверху всего, еще и корил себя за эти чувства – мне все это очень знакомо, то же самое я до недавнего времени испытывала в связи с болезнью одного моего близкого родственника. И самое забавное состоит в том, что, будучи до сих пор не в состоянии оправдать и простить себя, я абсолютно уверена, что Дамблдор зря не может простить себя («Ты не можешь презирать меня больше, чем я презираю себя», – скажет он Гарри в мае).
Он был молод, ему было больно – он имел право испытывать все эти чувства. Ведь, в конце концов, если я что-то и поняла за все это время болезни родственника, так то, что главное – что делается, а не что думается. Важно не то, что хочется, важно то, что хочется, но не делается.
Вот хотел Дамблдор блистать, быть известным, свободным, хотел путешествовать и покорять мир. Ну и что? На нем «лежала ответственность за нестабильную сестру и капризного, своенравного брата», и он «вернулся в деревню». Пусть злым, пусть несчастным – он вернулся. Мало того, судя по всему, настоял на том, чтобы ни Дож, ни Аберфорт не рушили свое будущее. Может быть, в 17 лет он некоторые вещи и не понимал, но он точно понимал, что такое ответственность и как ему с нею быть. И поступал соответственно. По крайней мере, до определенного момента. Но и до, и во время, и после него у Дамблдора не было плохих намерений – и я думаю, именно это идет в счет.
Многие ли 17-летние мальчики, пусть злясь, пусть проклиная все на свете, готовы так пожертвовать своим будущим, отказавшись от всего, что оно сулит? Нет в этом ничего героического (потому что речь идет о семье и именно так и следует поступить любому нормальному человеку по отношению к нормальной семье), но, вместе с тем, все героическое – здесь. Счастье или радость – не критерии правильного выбора. Подумайте о маньяках – они вполне счастливы, когда делают свои маньячные дела. Точно так же несчастье и грусть – не критерии неправильности выбора. Как правило, счастье приходит много после того, как правильный выбор уже сделан.
Мог ли Дамблдор предоставить Аберфорта и Ариану самим себе и укатить развлекаться и греться в лучах славы? Нет. Потому что он – Дамблдор, которого я знаю, который и до конца своих дней очень много размышляет о выборе. Он сделала так, как было правильно. Для меня только это имеет значение. Что он при этом испытывал, мне плевать. Как должно быть плевать всякому, кто считает себя нормальным человеком. Чувства – штука такая… за них клеймить и осуждать нельзя. Только физические действия идут в счет.
Однако жизнь – не менее «такая» штука, и зачастую именно чувства приводят нас к вполне физическим действиям.
О том, что случилось в лето смерти Кендры после того, как прошли те несколько недель, в течение которых Дамблдор «нормально справлялся» с опустившейся на его плечи ответственностью, и Директор, и Аберфорт говорят после тяжелой, драматической паузы, причем оба меняются в лицах – Директор холоден от боли, а на лице Аберфорта появляется по-настоящему опасное, звериное выражение.
- …пока он не появился. Грин-де-Вальд, – говорит Аб.
- …а потом, конечно, появился он, – вторит ему брат. – Грин-де-Вальд.
Рожденный в конце 19 века, как и Дамблдор, Геллерт поступил на учебу в Дурмстранг, где, по словам Риты, рано проявил свои блестящие способности, которые были сопоставимы со способностями Дамблдора, однако были направлены им в русло «рискованных экспериментов».
Скорее всего, эти самые эксперименты были как-то связаны с Дарами Смерти – ведь именно в Дурмстранге Грин-де-Вальд увлекся идеей их найти, по поводу чего стал украшать стены школы знаком Даров, о чем нам известно от Крама.
Идеи поиска Даров и превосходства волшебников над маглами так захватили его, что он готов был не останавливаться ни перед чем. По всей видимости, Геллерт обладал очень вспыльчивым нравом и был склонен к жестокости с детства – даже очень терпимый Дурмстранг в итоге не выдержал его экспериментов и нападок на других учеников, едва не повлекших человеческие жертвы. Геллерта исключили, когда ему было 16 лет.
Видимо, сделано это было с таким позором, что Грин-де-Вальду пришлось покинуть страну – в книгах пишут, что следующие несколько месяцев он «путешествовал за границей». Рита уточняет: «Батильда Бэгшот согласилась принять в дом своего внучатого племянника Геллерта Грин-де-Вальда».
Вряд ли этот визит был продиктован исключительно желанием скрыться подальше от Дурмстранга и родственными чувствами к Батильде – скорее всего, Геллерт узнал, что в Годриковой Впадине находится могила Игнотуса Певерелла, одного из троих первых обладателей Даров Смерти. Скорее всего, Грин-де-Вальд хотел, так скажем, провести исследования местности. Однако в поиске следа Даров Геллерт внезапно набрел на Дамблдора – как рассказывает Рите Батильда, она представила мальчиков друг другу в надежде, что Дамблдор немного развеется в обществе своего сверстника. «Мальчики друг другу сразу понравились», – прокомментировала это Батильда.
Геллерт был поражен встречей с кем-то, столь же талантливым, как и он сам. Дамблдор испытывал те же чувства: «Наконец-то у моего брата был равный, с кем можно было поговорить, кто-то такой же великолепный и талантливый, как и он сам», – скажет Аберфорт. Батильда в книге Риты констатирует, что мальчики дискутировали целыми днями и обменивались письмами по ночам.
Грин-де-Вальд немедленно заразил Дамблдора идеей найти Дары: «Ты не можешь представить, как его идеи заразили меня, Гарри, вдохновили, – станет делиться с Гарри Дамблдор в мае. – Маглы, которые заставлены подчиниться. Мы, волшебники, торжествуем. Грин-де-Вальд и я, великолепные молодые лидеры революции. И в самом сердце наших планов – Дары Смерти! Как они зачаровывали его, как они зачаровывали нас обоих! Непобедимая палочка, оружие, которое поведет нас к власти! Воскрешающий камень – для него, хоть я и притворялся, что не понимаю, это значило армию инферналов! Для меня, признаю, он значил возвращение моих родителей и снятие всей ответственности с моих плеч. А мантия… каким-то образом мы никогда не обсуждали мантию слишком много, Гарри. Мы оба умели скрывать себя достаточно хорошо и без мантии, настоящая магия которой, конечно, в том, что ее можно использовать для защиты и прикрытия как других, так и владельца. Я думал, что, если мы ее когда-нибудь найдем, ее можно будет использовать, чтобы прятать Ариану, но наш интерес к мантии был преимущественно в том, что она завершала тройку, ибо легенда гласила, что человек, объединивший три предмета, станет настоящим Мастером смерти, что для нас значило «неуязвимым». Неуязвимые Мастера смерти Грин-де-Вальд и Дамблдор! Два месяца сумасшествия, жестоких мечтаний и отрицания единственных членов семьи, которые у меня остались».
В книге Риты приводится текст одного из писем Директора Геллерту, в котором, в общем и целом, все сумасшествие и жестокие мечтания просматриваются так хорошо, как только возможно, даже если у вас необычайно низкое зрение: «Геллерт – твоя идея о правлении волшебников для блага маглов же – это, я думаю, ключевое. Да, нам дали силу, и, да, эта сила дает нам право править, но она также дает нам ответственность перед теми, кем мы правим. Мы должны подчеркнуть эту идею, это будет основным камнем, вокруг которого мы станем строить. Когда нам станут возражать, как, конечно, будет, это станет базисом всех наших контраргументов. Мы берем контроль для общего блага. А из этого следует, что там, где мы встретим сопротивление, мы должны будем использовать только необходимую силу, не больше (это была твоя ошибка в Дурмстранге! Но я не жалуюсь, потому что, если бы тебя не исключили, мы бы никогда не встретились). Альбус».
Неслабо. «Магия – сила» – и все в таком духе. Впрочем, мало чего удивительного на самом деле – не стоит забывать, какие идеи перестройки общества бродили в то неспокойное время по умам, аки призраки по Хогвартсу. Крайняя популярность идей Ницше о сверхчеловеке, новая волна революционных настроений всей молодежи Европы (святой Мерлин, кто из нас не был революционером в 17 лет? Мне жаль того, кто сумел этого избежать – у него не было нормального детства) – продвинутые идеи завладевают острыми, открытыми и любознательными умами, молодые люди объединяются в кружки по интересам и проводят время вместе с друзьями в разговорах и мечтаниях… Вряд ли магический мир это явление обошло стороной.
Кроме того, сдается мне, Грин-де-Вальд был крайне самовлюбленным, психически больным, опасным психопатом, который очень умело использовал Дамблдора в своих целях. Он искренне полагал, что вместе они станут непобедимыми, он благодарил небеса за то, что Дамблдор стал его сторонником – такой могущественный, первоклассный маг, философ, обладающий ясным, пытливым умом – Геллерт очень многое почерпнул из общения с Директором.
«Я думаю, это самое худшее, – обсуждая прочитанное, чуть позже скажет Гермиона. – Я знаю, Батильда думала, все это просто разговоры, но «Ради Общего Блага» стало слоганом Грин-де-Вальда, его оправданием всем зверствам, которые он совершил позже. А… из этого выходит… будто Дамблдор подал ему идею». И лично я считаю, что не одну. Эх, читал бы книгу Риты Том, он бы умылся кровавыми слезами – мало того, что идеи Дамблдора в 17 лет были круче, чем у него самого в 72, так он еще и готов был, оказывается, их поддерживать – и все почему? потому что любил (!) того (!), с золотыми волосами!! Бедный Том…
- Не возражаешь, если я с тобой поговорю? – вежливо спрашивает она.
- Нет, – отвечает Гарри, потому что, человек, ставший взрослым, не хочет задеть ее чувства.
И хвала небесам, что он так отвечает, ибо жизнь в очередной раз выдает ему пряник за то, как он пытается оставаться хорошим:
- Гарри, ты хотел знать, кем был тот человек на фотографии. Ну… у меня есть книга.
Смущаясь, Гермиона аккуратно кладет копию «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора» Гарри на колени. Парень теряет дар речи:
- Где –? Как –?
- Она была в гостиной Батильды, просто лежала там…
Ну, может, книга там и «просто» лежала, но вот Гермиона взяла ее отнюдь не просто так. То есть, я имею ввиду, понятно, что она заинтересовалась нашумевшей книгой – однако, судя по всему, пока Гарри был наверху, девушка успела ее пролистать, причем с совершенно конкретной целью. Видимо, поняв, что фотографии на комоде могли оказаться в руках у Риты, Гермиона пролистывала книгу целенаправленно, ища фото человека, которого Гарри назвал вором. На ход Игры сей маленький вывод, конечно, совершенно не влияет, но мне просто приятно лишний раз отметить уровень активности соображательной штуковины Гермионы, ее внимательность, а также склонность прислушиваться к тому, что волнует Гарри (хотя в попытках достучаться до «Батильды» парень и орал достаточно громко, так, что, сложно было как раз не услышать).
- Эта записка торчала из нее, – заканчивает Гермиона, зачитывая строчки, выведенные зелеными чернилами: – «Дорогая Батти, спасибо за помощь. Вот экземпляр книги, надеюсь, тебе понравится. Ты сказала все, даже если не помнишь этого. Рита». Я думаю, книга прибыла, когда настоящая Батильда была жива, но, возможно, она была не в состоянии прочитать ее?
Что ж, судя по тому, что корешок книги остается гладким и нетронутым, Гермиона права, книгу действительно не читали. И, похоже, Батильда действительно разговаривала с Ритой, будучи уже сильно не в себе – дом выглядел так, словно никто не ухаживал за ним многие месяцы, а возможно, и годы, в спальне Батильды под кроватью стоял ночной горшок, что так же не указывает на ее превосходное самочувствие при жизни (не Нагайна же горшок для себя притащила).
Более того, в стройных рядах рамочек на комоде отсутствовало шесть фотографий, которые, очевидно, вошли в книгу – и я сильно сомневаюсь, что Рита спрашивала хозяйку, можно ли их взять. Скорее всего, Батильда даже не заметила пропажу.
Наконец, и Мюриэль, и давшие ряд комментариев Рите соседи Батильды Айвор Диллонсби и Энид Смик сходятся на одном и том же: Батильда помешалась умом. Правда, используют они для описания ее состояния самые разные эпитеты, будто бы соревнуясь, кто обзовет ее похлеще, но оставим это на их совести.
Грустно просто осознавать, что некогда знаменитая, блестящая волшебница вынуждена была доживать жизнь в одиночестве, судя по всему, без какой-либо помощи, зато посреди нескончаемых насмешек. Хотя мне не верится, что Дамблдор ей не помогал – все же она была одной из самых старинных его приятельниц (по словам Риты в книге, Батильда сама написала ему, еще школьнику, пораженная его статьей в «Трансфигурации сегодня», и завязавшаяся переписка в конце концов сблизила ее с семьей Дамблдоров, закрытой от остальных соседей в целом). А вот с его смертью ей должно было стать совсем одиноко и невыносимо жить.
Несколько цинично, однако Дамблдор отправил Риту к Батильде за некоторыми деталями для книги, после чего, понимая, что с Батильдой все кончено, и это лишь вопрос времени, отдал ее Реддлу без боя. Это облегчило ее страдания. По-моему, так.
Меня утешает мысль о том, что Рите, судя по всему, хватило такта быть милой с Батильдой в период их встречи или встреч. Да, она открыто признается, что говорила с ней не по ее чистой воле (сперва: «Ты сказала все, даже если не помнишь этого», – затем читаем в книге: «Тем не менее, комбинация надежных и проверенных методов взятия интервью…» – и: «…насчет одной темы, тем не менее, Батильда однозначно оправдала усилия, которые я потратила на то, чтобы добыть Сыворотку правды…» – интересно, кстати, где Рита Сыворотку добыла? не у Снейпа ли? тогда усилия и впрямь были колоссальными), однако мне нравится то, что Рита называет ее «Батти» в своей записке (впрочем, не удержавшись от приколов в типично своем стиле: «Вот экземпляр книги, надеюсь, тебе понравится», – как я поливаю грязью твоего друга, ага).
Между прочим, так она зовет Батильду и в книге – на сей раз, заключая прозвище в кавычки. Это наталкивает меня на мысль, что Рита называет Батильду этим именем вслед за кем-то. Подозреваю, за Дамблдором – за кем же еще? Так и слышу: «Да, Рита, вы можете навестить Батти в Годриковой Впадине, думаю, это вполне приемлемо. Поскольку она не вполне в себе, предупреждаю сразу, вам понадобится быть терпеливой и сдержанной. Обратитесь к лучшим качествам своей натуры. Есть же они у вас. Где-нибудь. Наверное… Как бы то ни было, мне бы хотелось верить, что вы будете с ней максимально обходительны. В противном случае, вам придется столкнуться с моим… м… неудовольствием. Видите ли, Батти – старинная подруга моей семьи. Мы друг друга поняли? Отлично. Обратитесь к профессору Снейпу за Сывороткой правды, это поможет вам в разговоре с Батильдой, скажите ему, что я попросил. Да, и опросите, раз уж будете там, других жителей Годриковой Впадины – по самым разным вопросам, мы же не можем ссылаться на слова одной Батти в каждой главе книги?» Примерно так.
Надо отдать Рите должное – судя по ее обращению к Батильде в записке, а также по тому, как она отзывается о ней в книге, Рита не позволила себе плохое или неуважительное обращение с умирающей беспомощной старухой. Во всяком случае, в лоб (фотографии же кто-то таки украл). И на том спасибо.
Борода Дамблдора отчетливо видна и в том, что Рита, которая удавится за любую копейку, отсылает бесплатный экземпляр книги Батильде, хотя прекрасно знает, что женщина не в том состоянии, чтобы читать что-либо, исключая, возможно, огромные надписи на заборах. Но Рите совершенно не обязательно знать, зачем Директор просит ее поступить столь нелогично – ее дело исполнять.
Со своей стороны Дамблдор прекрасно понимает, что едва ли не единственный шанс для Гарри заполучить книгу, получить которую ему необходимо, чтобы продвинуться по Игре – это как раз умыкнуть ее из дома Батильды. Поэтому книга высылается Ритой в тщательно выбранный период – когда Том покидает дом, подселив в Батильду Нагайну, а заодно и прочно покидает страну, но до или сразу после того, как палатку ребят оставляет Рон.
Ежу понятно, что, раз Директор предвидел, что Рон захочет вернуться, значит, предвидел, и что захочет уйти. Также понятно, что именно Гермиона является тем фактором, который будет сдерживать Гарри от посещения Годриковой Впадины. Понятно и то, что она сломается именно без Рона – примерно к Рождеству. Таким образом, ребята оказываются в Годриковой Впадине очень вовремя – книга уже на месте.
Гарри, мальчик пылкий, с жестоким удовольствием пялится на обложку, на которой миролюбиво моргает изображение Дамблдора, думая примерно в сторону того, что теперь-то он, Гарри, наконец узнает всю правду, вне зависимости от того, хотел этого Директор или нет. Тут можно смело произносить «ха-ха» три раза – по поводу «всей правды», хотения Директора и просто так, потому что Гарри такой молодой и такой смешной – ну вот узнает он так называемую всю и так называемую правду. И что? Почему-то так сильно стремясь к этой правде, Гарри ни разу не дает себе труда задуматься, почему Дамблдор ему ее не раскрывал сам – и что он, Гарри, будет делать с ней, когда получит.
- Ты все еще злишься на меня? – новые слезы текут по лицу Гермионы. Очевидно, она приняла выражение лица Гарри на свой счет.
- Нет, – тихо говорит Гарри. – Нет, Гермиона, я знаю, это была случайность. Ты пыталась вытащить нас оттуда живыми, и ты была невероятна. Я был бы мертв без твоей помощи.
Гермиона приободряется. Вернув ей слабую улыбку и решив, что пора покончить с лирической паузой, Гарри погружается в книгу, к главному герою которой отчего-то способен проявить на порядок меньше терпения и снисходительности. Наверное, оттого, что Гермиона никогда не была для подсознания Гарри сверхродительской фигурой.
Гарри натыкается на фотографию вора практически сразу – молодой Дамблдор на изображении смеется, стоя рядом с красивым молодым парнем, который так же покатывается со смеху. «Альбус Дамблдор вскоре после смерти матери со своим другом Геллертом Грин-де-Вальдом», – гласит подпись к снимку.
Пауза. Спустя несколько долгих мгновений Гарри косится на Гермиону, которая глядит в книгу так, словно не может поверить в то, что видит.
- Грин-де-Вальдом? – Гермиона медленно поворачивает голову к Гарри.
«Другом Грин-де-Вальдом?» – было бы спросить куда лучше. Именно здесь как нельзя кстати заезженная до дыр и трещин популярная фраза «Вот это поворот».
Гарри быстро пролистывает книгу до того момента, в котором упоминается Грин-де-Вальд, и ребята принимаются читать главу под названием «Общее Благо».
Важная такая глава. Интересная. И для продвижения по Игре крайне необходимая. Не увидь Гарри лицо вора в сознании Тома, вряд ли бы он к этой главе в принципе приступил. В цепочку причин, по которой Гарри берется именно за данную главу, удачно, но не спланированно ложатся и фотографии Батильды, обнаруженные ребятами в ее доме, и то, что Гарри увидел именно это изображение в книге Риты, которую взял в руки в кабинете Амбридж еще в сентябре.
Я долго размышляла, не было ли последнее частью Игры. Такова уж неизменная привычка любого, кто годами работает над шифрами, загадками и тайными планами – начинаешь видеть шифры, загадки и тайные планы во всем, что попадается под руку. Однако будем сходить с ума в рамках разумного – Гарри случайно наткнулся на фотографию Дамблдора с Грин-де-Вальдом в книге в Министерстве, и это совпадение не было Игрой, хотя, безусловно, очень хорошо в нее легло – заимев книгу в своем распоряжении, Гарри листает ее, ища конкретно это фото.
Если бы Гарри стащил книгу из кабинета Амбридж (что было маловероятно, ибо таскать с собой ее было парню в тот момент не с руки), Гарри бы узнал, кто этот вор, значительно раньше, однако это не дало бы ему ничего ровно до того момента, как о воре с позволения Дамблдора узнал бы Том. То есть наличие книги в кабинете Амбридж, которую Гарри мог бы пролистать, а мог бы и не пролистать, Игрой не было.
А вот содержание книги в целом и главы «Общее Благо» в частности – за вычетом, разумеется, колкостей и приступов самолюбования Риты, которая явно отрывалась вовсю, занимаясь ее написанием – очень Игра. Временами даже Большая, что, пожалуй, гораздо важнее.
А поскольку Рита, конспектируя правду Дамблдора, присовокупила к конспекту немалую долю своей драгоценной скитернутой человеческой индивидуальности, мне сейчас придется заняться кропотливой работой по отделению мух от котлет с последующим выуживанием из котлет самых вкусных и полезных жилок. То есть рассматривать животрепещущие слова Риты, пропуская через сита правды, доброты и пользы, иногда деля на два, периодически – на три, но всегда – не забывая сравнивать со словами первоисточников, причин и привычек врать у которых не наблюдается.
Ибо есть у меня гипотеза, что свои жизни Дамблдор и Аберфорт проживали лично, а потому не стоит полагаться на книги и слухи, чтобы понять, как именно они их проживали – довольно мюриэльщины и дожества, думаю, сейчас самое время перестать описывать домыслы, почти полгода витавшие вокруг Гарри и непосредственно в его голове. Ибо то, как Гарри из-за этого колбасило, конечно, анализировать весело и поучительно, но за Дамблдора обидно.
Итак, семья Дамблдоров жила в Насыпном Нагорье до момента, когда с шестилетней Арианой случилась беда. По словам Аберфорта, маленькая Ариана, еще не способная контролировать всплески стихийной магии, колдовала на заднем дворе. За ней подсмотрело трое мальчиков-маглов. Они перелезли через садовую изгородь и стали приставать к девочке, чтобы та показала, в чем фокус. «Они немного увлеклись, пытаясь заставить маленького фрика прекратить это делать», – расскажет Аберфорт в мае. Вполне очевидно, что мальчики сделали с Арианой.
Когда Персиваль узнал об этом, он отправился к этим маглам и отомстил им. Я понятия не имею, убил ли он – ни Дож, ни Рита, ни Аберфорт, ни сам Директор не используют это слово, чаще всего они говорят «атаковал» и «совершил нападение». Однако все сходятся на том, что нападение было совершено с чрезвычайной жестокостью. Персиваля посадили в Азкабан, где он и умер, известный как маглоненавистник – потому что отказался и, уверена, запретил семье рассказывать причины своего поступка, иначе бы власти заперли Ариану в больнице святого Мунго в отделении для умалишенных до конца ее дней, как серьезную угрозу нарушения Статута о секретности.
Ибо после нападения мальчиков Ариана повредилась в уме, «она не хотела использовать магию, но не могла от нее избавиться; она обратилась внутрь и сводила ее с ума, вырывалась из нее, когда она не могла этого контролировать, и иногда она была страшной и опасной. Но преимущественно она была милой, напуганной и безвредной», – пояснит Аберфорт.
Есть подозрение, что Ариана превратилась в Обскура – ребенка, вынужденного подавлять свою магию, в результате чего внутри него образуется паразитический сгусток темной энергии, своего рода аморфная хаотическая опухоль. Когда Обскур теряет над собой контроль, он принимает форму Обскури – жидкое темномагическое облако, которое разрушает все на своем пути, чьи размеры и мощь зависят от силы хозяина. Обскур высасывает силы из своих носителей, постепенно сводя их в могилу – редкий ребенок с Обскуром способен дожить хотя бы до десяти лет.
Угомонить Обскури могут, пожалуй, только самые близкие и любимые люди. Для Арианы таким стал Аберфорт («Я был ее самым любимым <…> я мог ее успокоить, когда у нее случались приступы, а когда она была тихой, она помогала мне кормить коз»).
Семья Дамблдоров переехала в Годрикову Впадину, где жила крайне замкнуто, и никто из соседей практически не припоминал историю Персиваля – более того, придумав легенду о болезни Арианы на всякий случай, Кендра постаралась и вовсе скрыть факт ее существования от глазастых соседей. Единственная во всей Годриковой Впадине, у кого установились хоть какие-то теплые отношения с Кендрой, Батильда была поражена, когда однажды ночью случайно увидела, как Кендра делает один круг по двору с Арианой – год спустя после переезда Дамблдоров в Годрикову Впадину.
Примерно в то же время будущий Директор поступил в Хогвартс, однако, признавая, что его отец виновен, никогда не распространялся о причинах, по которым Персиваль оказался в тюрьме, даже близкому другу Дожу. Батильде и кругу самых хороших друзей оба брата Дамблдора и их мать говорили, что Ариана «слишком слаба для школы», когда кто-либо начинал интересоваться жизнью девочки, и любые разговоры на тему быстро сворачивались.
В какой-то мере, конечно, это было домашним заточением, как о нем отзываются Рита и Мюриэль. Однако я уверена, что Ариане было объяснено, почему все так, а не иначе, и она, умная, скромная, добрая девочка, все поняла. За ней с большой любовью и вниманием ухаживали мать и старшие братья – об этом скажет сам Аберфорт («…моя мать присматривала за ней и пыталась держать ее в спокойствии и счастье»), об этом свидетельствует и то, что Ариана дожила аж до 14 лет – и, вероятно, смогла бы прожить еще дольше.
Однако, когда ей было 14, в семье Дамблдоров вновь случилось несчастье – Ариана опять потеряла контроль. Единственный человек, который мог успокоить Обскури-Ариану, Аберфорт, тогда отсутствовал в доме. Видимо, Кендра не успела увернуться («…видите ли, моя мать не была так молода, как прежде…» – станет говорить Аб), и Ариана, не способная себя контролировать, случайно убила мать.
Будущему Директору на тот момент было почти 17, и они с Дожем – с рассказа об этом и начинается глава «Общее Благо» – планировали отправиться в годичное путешествие, таким образом ознаменовав окончание школы. «Двое молодых людей остановились в «Дырявом Котле» в Лондоне, готовясь отравиться в Грецию следующим утром, когда прибыла сова с новостями о смерти матери Дамблдора», – с поразительной точностью в деталях пишет Рита. Можно, я не буду говорить, откуда она взяла эти детали – где остановились, куда собирались, когда прибыла сова – если из двоих людей, которые могли бы ей их сообщить, Дож, как пишет ниже Рита, «отказался давать интервью для этой книги»?
Кстати говоря, еще чуть ниже Рита вновь бросает шпильку в его адрес: «…предоставил общественности свою собственную сентиментальную версию того, что случилось потом. Он описывает смерть Кендры, как трагический удар, а решение Дамблдора отложить поездку, как акт благородного самопожертвования». По всей видимости, шпильки летят в направлении некролога Дожа – однако как это возможно, если он вышел уже после того, как книга была написана? Получается, либо Рита дорабатывала книгу на коленке прямо накануне издания, либо она до этого была знакома с версией Дожа о событиях тех лет. Как так?
А вспомним, что оба швыряются друг в друга шпильками с самого начала Игры Года. Складывается ощущение, что сии баталии за кадром носили крайне продолжительный характер и имеют отношение еще к Игре-6 как минимум. Мог ли Дож, которому Дамблдор явно намекнул, что писать в некрологе, если таковой вдруг случайно потребуется, знать, что именно пишет Скитер? Я полагаю, Дож как минимум – и не без помощи очередной серии намеков Дамблдора – об этом догадывался.
Но я отвлеклась. По крайней мере, все сходятся на том, что Дамблдор немедленно вернулся в Годрикову Впадину – Дож (с благоговейным трепетом), Аб (с громкими фырками и плевками в камин) и Рита (с язвительными комментариями и намеками на). Директор и Дож присутствовали на похоронах Кендры, после чего Дож отбыл в одиночное путешествие, а Дамблдор остался в доме в качестве главы семьи.
Напомню, в своем некрологе Дож открыто признается: это был период, когда он меньше всего общался с Дамблдором – а потому факты по поводу этого интересного времени в его памяти отсутствуют – в то время как Дож в красках описывал свои путешествия, Дамблдор был скуп на описания своей повседневной жизни.
А его повседневная жизнь скатывалась в рутину. 16-летний Аб собирался покинуть школу, чтобы ухаживать за Арианой, однако Дамблдор настоял, чтобы тот продолжил свое обучение. Несколько недель будущий Директор справлялся с Арианой, вероятно, на глазах у Аба, чтобы доказать ему, что сумеет с ней ужиться и без его помощи («Небольшое падение для мистера Блистательного, за ухаживание за полусумасшедшей сестрой в попытках остановить ее от того, чтобы она не взорвала дом каждый божий день, не дают никаких призов. Но несколько недель он нормально справлялся…» – расскажет Аб).
- Меня это возмущало, – открыто и холодно констатирует в разговоре с Гарри лично Дамблдор в мае, говоря о своем отношении к тому, во что превратилась жизнь членов его семьи после смерти Кендры. – Я был одарен, я был выдающимся. Я хотел вырваться. Я хотел сиять. Я хотел славы. Не пойми меня неправильно, – боль снова отразится на лице Директора. – Я любил их. Любил родителей, любил брата и сестру, но я был эгоистом, Гарри, гораздо большим эгоистом, чем ты, который есть самый удивительно самоотверженный человек, какого только можно себе представить. Так что, когда моя мать умерла, на мне лежала ответственность за нестабильную сестру и капризного, своенравного брата, и я вернулся в деревню злым и несчастным. Пойманный в ловушку, теряющий годы, я думал!
Здесь мне стоит, пожалуй, вклиниться сразу же. Я не намеревалась делать это здесь, так скоро, однако так уж получается – даже в этой своей отгоревшей, тающей форме не только Игра развивается людьми, но и сама ими управляет.
Мне очень знакомы чувства 17-летнего Дамблдора, покинувшего школу, как пишет Рита, «в сиянии славы – староста факультета и староста школы, победитель конкурса Барнабаса Финкли за выдающиеся владения заклинаниями, представитель британской молодежи в Визенгамоте, золотой медалист за новаторский вклад в Международной конференции алхимиков в Каире».
Он действительно чувствовал себя в ловушке в своей старой деревеньке, запертый с младшими братом и сестрой. Перед ним был открыт весь мир, любые двери, его знали и почитали в обществе – и вдруг вся его жизнь съежилась до необходимости ухаживать за больным родственником и младшим братом, бурно переживавшим переходный возраст на фоне ранних потерь. Его старый друг Дож высылал красочные описания путешествия, в которое отправился без него (вот чего не могу понять, так не могу – раз договорились ехать вместе, значит, надо было либо ехать вместе, пусть позже, либо не ехать вообще; скорее всего, поехать Дожа уговорил Дамблдор, как уговорил Аба продолжать обучение), которые, я уверена, со временем стали казаться Дамблдору едва ли не издевкой. Он завидовал и жалел себя.
Новые друзья, небось, как оно обычно бывает, растворились. Из людей, с кем можно было бы пообщаться, оставалась старенькая Батильда – но этого, естественно, было мало. Подросток-Дамблдор, потерявший отца, а теперь еще и мать, в страхе перед свалившейся на него депрессией и тем, что, уверена, казалось ему загубленным будущим, чувствовал себя глубоко одиноким и несчастным. Как оно обычно бывает, с самым близким для него человеком, собственным братом, он делиться переживаниями не стал. Отчасти потому, что Аб и сам в ту пору был не сахар (впрочем, и его винить в этом нельзя – ему было не менее тяжело), отчасти – из-за нежелания делать ему еще больнее рассказами о своих чувствах. Это был ужасный, одинокий период в жизни Дамблдора.
Да, он чувствовал злость, досаду, раздражение, может, даже ненависть, подспудно, сверху всего, еще и корил себя за эти чувства – мне все это очень знакомо, то же самое я до недавнего времени испытывала в связи с болезнью одного моего близкого родственника. И самое забавное состоит в том, что, будучи до сих пор не в состоянии оправдать и простить себя, я абсолютно уверена, что Дамблдор зря не может простить себя («Ты не можешь презирать меня больше, чем я презираю себя», – скажет он Гарри в мае).
Он был молод, ему было больно – он имел право испытывать все эти чувства. Ведь, в конце концов, если я что-то и поняла за все это время болезни родственника, так то, что главное – что делается, а не что думается. Важно не то, что хочется, важно то, что хочется, но не делается.
Вот хотел Дамблдор блистать, быть известным, свободным, хотел путешествовать и покорять мир. Ну и что? На нем «лежала ответственность за нестабильную сестру и капризного, своенравного брата», и он «вернулся в деревню». Пусть злым, пусть несчастным – он вернулся. Мало того, судя по всему, настоял на том, чтобы ни Дож, ни Аберфорт не рушили свое будущее. Может быть, в 17 лет он некоторые вещи и не понимал, но он точно понимал, что такое ответственность и как ему с нею быть. И поступал соответственно. По крайней мере, до определенного момента. Но и до, и во время, и после него у Дамблдора не было плохих намерений – и я думаю, именно это идет в счет.
Многие ли 17-летние мальчики, пусть злясь, пусть проклиная все на свете, готовы так пожертвовать своим будущим, отказавшись от всего, что оно сулит? Нет в этом ничего героического (потому что речь идет о семье и именно так и следует поступить любому нормальному человеку по отношению к нормальной семье), но, вместе с тем, все героическое – здесь. Счастье или радость – не критерии правильного выбора. Подумайте о маньяках – они вполне счастливы, когда делают свои маньячные дела. Точно так же несчастье и грусть – не критерии неправильности выбора. Как правило, счастье приходит много после того, как правильный выбор уже сделан.
Мог ли Дамблдор предоставить Аберфорта и Ариану самим себе и укатить развлекаться и греться в лучах славы? Нет. Потому что он – Дамблдор, которого я знаю, который и до конца своих дней очень много размышляет о выборе. Он сделала так, как было правильно. Для меня только это имеет значение. Что он при этом испытывал, мне плевать. Как должно быть плевать всякому, кто считает себя нормальным человеком. Чувства – штука такая… за них клеймить и осуждать нельзя. Только физические действия идут в счет.
Однако жизнь – не менее «такая» штука, и зачастую именно чувства приводят нас к вполне физическим действиям.
О том, что случилось в лето смерти Кендры после того, как прошли те несколько недель, в течение которых Дамблдор «нормально справлялся» с опустившейся на его плечи ответственностью, и Директор, и Аберфорт говорят после тяжелой, драматической паузы, причем оба меняются в лицах – Директор холоден от боли, а на лице Аберфорта появляется по-настоящему опасное, звериное выражение.
- …пока он не появился. Грин-де-Вальд, – говорит Аб.
- …а потом, конечно, появился он, – вторит ему брат. – Грин-де-Вальд.
Рожденный в конце 19 века, как и Дамблдор, Геллерт поступил на учебу в Дурмстранг, где, по словам Риты, рано проявил свои блестящие способности, которые были сопоставимы со способностями Дамблдора, однако были направлены им в русло «рискованных экспериментов».
Скорее всего, эти самые эксперименты были как-то связаны с Дарами Смерти – ведь именно в Дурмстранге Грин-де-Вальд увлекся идеей их найти, по поводу чего стал украшать стены школы знаком Даров, о чем нам известно от Крама.
Идеи поиска Даров и превосходства волшебников над маглами так захватили его, что он готов был не останавливаться ни перед чем. По всей видимости, Геллерт обладал очень вспыльчивым нравом и был склонен к жестокости с детства – даже очень терпимый Дурмстранг в итоге не выдержал его экспериментов и нападок на других учеников, едва не повлекших человеческие жертвы. Геллерта исключили, когда ему было 16 лет.
Видимо, сделано это было с таким позором, что Грин-де-Вальду пришлось покинуть страну – в книгах пишут, что следующие несколько месяцев он «путешествовал за границей». Рита уточняет: «Батильда Бэгшот согласилась принять в дом своего внучатого племянника Геллерта Грин-де-Вальда».
Вряд ли этот визит был продиктован исключительно желанием скрыться подальше от Дурмстранга и родственными чувствами к Батильде – скорее всего, Геллерт узнал, что в Годриковой Впадине находится могила Игнотуса Певерелла, одного из троих первых обладателей Даров Смерти. Скорее всего, Грин-де-Вальд хотел, так скажем, провести исследования местности. Однако в поиске следа Даров Геллерт внезапно набрел на Дамблдора – как рассказывает Рите Батильда, она представила мальчиков друг другу в надежде, что Дамблдор немного развеется в обществе своего сверстника. «Мальчики друг другу сразу понравились», – прокомментировала это Батильда.
Геллерт был поражен встречей с кем-то, столь же талантливым, как и он сам. Дамблдор испытывал те же чувства: «Наконец-то у моего брата был равный, с кем можно было поговорить, кто-то такой же великолепный и талантливый, как и он сам», – скажет Аберфорт. Батильда в книге Риты констатирует, что мальчики дискутировали целыми днями и обменивались письмами по ночам.
Грин-де-Вальд немедленно заразил Дамблдора идеей найти Дары: «Ты не можешь представить, как его идеи заразили меня, Гарри, вдохновили, – станет делиться с Гарри Дамблдор в мае. – Маглы, которые заставлены подчиниться. Мы, волшебники, торжествуем. Грин-де-Вальд и я, великолепные молодые лидеры революции. И в самом сердце наших планов – Дары Смерти! Как они зачаровывали его, как они зачаровывали нас обоих! Непобедимая палочка, оружие, которое поведет нас к власти! Воскрешающий камень – для него, хоть я и притворялся, что не понимаю, это значило армию инферналов! Для меня, признаю, он значил возвращение моих родителей и снятие всей ответственности с моих плеч. А мантия… каким-то образом мы никогда не обсуждали мантию слишком много, Гарри. Мы оба умели скрывать себя достаточно хорошо и без мантии, настоящая магия которой, конечно, в том, что ее можно использовать для защиты и прикрытия как других, так и владельца. Я думал, что, если мы ее когда-нибудь найдем, ее можно будет использовать, чтобы прятать Ариану, но наш интерес к мантии был преимущественно в том, что она завершала тройку, ибо легенда гласила, что человек, объединивший три предмета, станет настоящим Мастером смерти, что для нас значило «неуязвимым». Неуязвимые Мастера смерти Грин-де-Вальд и Дамблдор! Два месяца сумасшествия, жестоких мечтаний и отрицания единственных членов семьи, которые у меня остались».
В книге Риты приводится текст одного из писем Директора Геллерту, в котором, в общем и целом, все сумасшествие и жестокие мечтания просматриваются так хорошо, как только возможно, даже если у вас необычайно низкое зрение: «Геллерт – твоя идея о правлении волшебников для блага маглов же – это, я думаю, ключевое. Да, нам дали силу, и, да, эта сила дает нам право править, но она также дает нам ответственность перед теми, кем мы правим. Мы должны подчеркнуть эту идею, это будет основным камнем, вокруг которого мы станем строить. Когда нам станут возражать, как, конечно, будет, это станет базисом всех наших контраргументов. Мы берем контроль для общего блага. А из этого следует, что там, где мы встретим сопротивление, мы должны будем использовать только необходимую силу, не больше (это была твоя ошибка в Дурмстранге! Но я не жалуюсь, потому что, если бы тебя не исключили, мы бы никогда не встретились). Альбус».
Неслабо. «Магия – сила» – и все в таком духе. Впрочем, мало чего удивительного на самом деле – не стоит забывать, какие идеи перестройки общества бродили в то неспокойное время по умам, аки призраки по Хогвартсу. Крайняя популярность идей Ницше о сверхчеловеке, новая волна революционных настроений всей молодежи Европы (святой Мерлин, кто из нас не был революционером в 17 лет? Мне жаль того, кто сумел этого избежать – у него не было нормального детства) – продвинутые идеи завладевают острыми, открытыми и любознательными умами, молодые люди объединяются в кружки по интересам и проводят время вместе с друзьями в разговорах и мечтаниях… Вряд ли магический мир это явление обошло стороной.
Кроме того, сдается мне, Грин-де-Вальд был крайне самовлюбленным, психически больным, опасным психопатом, который очень умело использовал Дамблдора в своих целях. Он искренне полагал, что вместе они станут непобедимыми, он благодарил небеса за то, что Дамблдор стал его сторонником – такой могущественный, первоклассный маг, философ, обладающий ясным, пытливым умом – Геллерт очень многое почерпнул из общения с Директором.
«Я думаю, это самое худшее, – обсуждая прочитанное, чуть позже скажет Гермиона. – Я знаю, Батильда думала, все это просто разговоры, но «Ради Общего Блага» стало слоганом Грин-де-Вальда, его оправданием всем зверствам, которые он совершил позже. А… из этого выходит… будто Дамблдор подал ему идею». И лично я считаю, что не одну. Эх, читал бы книгу Риты Том, он бы умылся кровавыми слезами – мало того, что идеи Дамблдора в 17 лет были круче, чем у него самого в 72, так он еще и готов был, оказывается, их поддерживать – и все почему? потому что любил (!) того (!), с золотыми волосами!! Бедный Том…
А ведь Дамблдор Грин-де-Вальда действительно любил. По всей видимости, Геллерт умел очаровывать не хуже, а то и лучше Тома – даже спустя столько лет Батильда в книге Риты отзывается о нем, как об «очаровательном мальчике – не важно, чем он стал позже». Помножьте это умение Грин-де-Вальда на радость Дамблдора от встречи с равным, от перспективы вырваться из замкнутого круга, на его стресс после потери матери, депрессию и одиночество, из которых его выдернуло именно появление Геллерта, которому Директор чувствовал себя обязанным за это, да на чарующую власть Даров над юными и увлекающимися умами – и получаем то, что получаем.
Раньше Дамблдору был неведом мир чувств, он был занят только магией – ему натурально вскружило голову его первое путешествие в этот прекрасный и опасный мир, в котором его активно поддерживал Геллерт – не отвечая Дамблдору взаимностью, он питал его иллюзии, ибо нуждался в таком блестящем стороннике. Дамблдор считал общение с Геллертом тем, что вернуло его к жизни, а на самом деле это было катастрофой. Самая большая трагедия того периода его жизни (и под словом «трагедия» я имею ввиду нечто по-настоящему ужасающее) заключается в том, что будущий Директор и глава Ордена Феникса был готов принять Темную сторону ради мужчины, который жесточайшим образом использовал его. Воистину, самые ужасные вещи на свете совершают люди, которые искренне думают, что поступают ради общего блага. Особенно – если в дело вовлечена какая-нибудь любовь.
Естественно, Ариана была заброшена. Любовная зависимость сродни наркомании – со всеми последствиями, вытекающими на окружающих. «Уход за Арианой отошел на второй план, – станет рассказывать Аб, – пока они составляли свои великие планы о новом волшебном порядке или искали Дары – или что угодно, в чем они были так заинтересованы. Великие планы ради блага всего волшебного сообщества, и, если об одной маленькой девочке забыли, какая разница, если Альбус работал ради общего блага?»
Это все понятно. С одной стороны, убегание от проблем, реальных проблем, оправдываемое тем, что Ариане «не придется прятаться, когда они изменят мир и выведут волшебников из подполья, показав маглам их место» (так в пылу ссоры кричал Геллерт Абу – и так, без сомнения, он гипнотизировал Дамблдора все те недели). С другой стороны, та самая страшная и одновременно прекрасная сила – любовь. Хотя в данном случае скорее болезнь. И страх ответственности перед семьей, вместо которой Дамблдор выбрал высокие слова об ответственности перед всем человечеством в целом – ведь оно, человечество, подальше будет, порасплывчатей, да и ответственность перед ним какая-то менее конкретная, чем перед собственной сестрой, которая нуждается в абсолютно прямой заботе – и не когда-нибудь потом и где-нибудь там, а прямо здесь и прямо сейчас.
В своей сумасшедшей, агонизирующей погоне за Общим Благом Дамблдор не учел самого важного – Общее Благо, которое ведет к отрицанию потребностей пусть даже одного маленького, больного, нуждающегося в помощи человека (тем более – ребенка) – это уже не Благо. Прав был Достоевский, когда писал про эту свою слезинку ребенка, воистину, очень прав.
И самое болезненное – то, что в глубине души Дамблдор все это прекрасно понимал. В мае он признается Гарри: «О, у меня были некоторые сомнения. Я успокаивал совесть пустыми словами. Это все будет для общего блага, а любой вред, который будет причинен, будет сотню раз компенсирован выгодами для волшебников. Знал ли я в глубине души, чем был Геллерт Грин-де-Вальд? Я думаю, да, но я закрывал глаза. Если бы планы, которые мы составляли, осуществились, сбылись бы все мои мечты». Дамблдор мечтал о власти и, как ни странно, одновременно с этим – свободе от ответственности, он мечтал быть известным, лидером, признанным, он мечтал сделать что-то настолько значительное, что потрясло бы весь мир, изменив его в корне.
Что ж, в каком-то смысле он получил все, кроме свободы от ответственности, только не теми путями, о которых грезил – и заплатив гораздо большую цену, чем готов был заплатить.
«А потом… ты знаешь, что произошло. Реальность вернулась в виде моего грубого, необразованного и бесконечно лучшего брата», – поведает Директор.
«После нескольких недель всего этого с меня хватало уже, – скажет Аберфорт. – Скоро я должен был вернуться в Хогвартс, так что я сказал им, я сказал им обоим в лицо, прямо как тебе, я сказал ему, что ему лучше прекратить это сейчас. Ты не можешь с ней путешествовать, она не в порядке, ты не можешь взять ее с собой, не важно, куда вы хотите отправиться, когда толкаете свои умные речи, пытаясь себя оправдать и подбить на это. Ему это не понравилось. Ему совсем это не понравилось, Грин-де-Вальду. Он разозлился. Он сказал мне, каким глупым маленьким мальчиком я был, пытаясь встать на его пути и пути моего великолепного брата…»
Но не только Геллерту это не понравилось: «Я не хотел слышать правду, которую он мне кричал, – скажет Директор. – Я не хотел слушать, что я не могу отправиться на поиски Даров со слабой и нестабильной сестрой на руках».
«И случился спор… – продолжит Аб, – и я вытащил палочку, а он – свою, и лучший друг моего брата применил ко мне Круциатус».
«Спор превратился в драку, – станет вторить ему Директор. – Грин-де-Вальд потерял контроль. То, что я всегда в нем чувствовал, но претворялся, что нет, теперь в ужасном виде вылезло наружу».
«…и Альбус пытался его остановить, и мы все трое потом сражались, и вспышки света и удары ее вывели, она не могла этого выносить, – расскажет резко побледневший Аберфорт с перекошенным от невыносимой боли лицом, – я думаю, она хотела помочь, но она не понимала, что делает –»
Похоже, Ариана ввязалась в драку, приняв форму Обскури и напав на всех троих. Они защищались – то есть проклятье, попавшее в нее, не было случайным.
«-- и я не знаю, который из нас сделал это, это мог быть любой из нас, – прохрипит Аб, – и она была мертва».
«И Ариана… после всей заботы и опеки моей матери… лежала мертвая на полу», – завершит Директор. И он в свою очередь добавит: «Видишь ли, я так и не узнал, кто из нас в ту последнюю, ужасную драку на самом деле вызвал проклятье, которое убило мою сестру. Ты можешь назвать меня трусом – ты будешь прав. Гарри, больше всего на свете я боялся узнать, что это я стал причиной ее смерти, не просто из-за моей заносчивости и глупости, но что именно я нанес удар, который забрал ее жизнь».
Оба брата крайне неясно рассказывают об этой сцене – может, и к лучшему, подробности я знать не хочу. Я знаю только то, что, если Ариана стала Обскури и начала нападать на всех троих, ее братья защищались и пытались ее угомонить – иное невозможно – и мне нужно очень много выпить и занюхнуть, чтобы предположить, что сделать это они пытались, используя Смертоносные проклятья.
Конечно, обо всем этом куске истории в книге Риты ни слова – она лишь говорит, что менее, чем через два месяца Дамблдор и Грин-де-Вальд расстались и не видели друг друга до самой финальной дуэли. «Причина была в смерти бедной маленькой Арианы, я думаю, – приводит Рита слова Батильды. – Это было ужасным шоком. Геллерт был в их доме, когда это случилось, и он пришел ко мне, весь трясся, сказал, что хочет вернуться домой завтра же. Ужасно расстроен, знаете. Так что я организовала Портал и больше его не видела».
Причины такой острой реакции Грин-де-Вальда на смерть в общем безразличной ему Арианы Аб будет объяснять по-своему: «Конечно, Грин-де-Вальд сбежал. За ним и так числился небольшой послужной список в его стране, и он не хотел, чтобы Ариану тоже записали на его счет».
Я полагаю, это правда, но не вся. Я думаю, для Геллерта действительно явилось большим ударом то, как он раскрылся перед Дамблдором и как его подвел. Были там какие-то чувства, как бывает у маньяков по отношению к жертвам, я практически в этом уверена – он искренне желал оставаться с ним ближайшими друзьями (только, разумеется, по своим причинам). Кроме того, мне кажется, он понимал, что будет с ним, попадись он на глаза немного отошедшему от первого шока Дамблдору – или Абу. Или обоим. Так что не только – и не столько – тюрьмы и нового дела на его счету боялся Геллерт.
«Альбус был вне себя от горя, – продолжает Батильда в интервью с Ритой, – после смерти Арианы. Это было так ужасно для обоих братьев. Они потеряли всех, кроме друг друга. Не мудрено, что возникла небольшая вспыльчивость. Аберфорт обвинял Альбуса, вы знаете, как обычно делают люди в таких ужасных обстоятельствах. Но Аберфорт всегда говорил с сумасшедшинкой, бедный мальчик. Все равно, сломать Альбусу нос на похоронах было непристойно».
Об истории с носом говорила и Мюриэль. Практически в тех же словах. И еще добавила, что Директор даже не защищался. Оно и понятно – свою вину во всем произошедшем Дамблдор осознал еще тогда.
Более того, следите за руками: в Игре-2 Гарри теряет все кости в руке; в Игре-6 Драко ломает Гарри нос. Я могу представить еще с десяток вывихов и переломов соучеников Гарри за все годы его обучения в школе – с которыми максимум за ночь превосходно справляются мадам Помфри и ее «Костерост». А Аб заехал брату кулаком в нос – и, как результат, Дамблдор ходит с переломанным носом до конца жизни. Что, он не мог его починить? Да оставьте вы.
Он не захотел этого делать намеренно, считая себя не в праве, решив, что сломанный нос на всю жизнь останется ему напоминанием об ошибках и грехе, которые он совершил.
«Грин-де-Вальд сбежал, как мог бы предположить любой, кроме меня. Он исчез – вместе с его планами по завоеванию власти, его идеями пыток маглов и мечтами о Дарах Смерти, мечтами, в которых я поощрял и помогал ему. Он убежал, а я остался хоронить сестру и учиться жить со своей виной и своим ужасным горем – ценой моего позора», – расскажет Директор, будто подтверждая: сломанный нос – маленькая расплата – неравная, но тем не менее – за бесстыдство двух месяцев; вечное напоминание о падении и позоре.
Проходили годы – очень многое в том, как Дамблдор послеживал за Грин-де-Вальдом, оказывается похожим на его отношение к набирающему силы Тому Реддлу. Он смотрел сквозь пальцы, как Геллерт терроризирует Европу, боясь возвращаться в Англию, где оставался Дамблдор, посвятивший себя служению Хогвартсу («…мне, тем временем, несколько раз предлагали пост Министра Магии. Конечно, я отказывался. Я выучил, что мне нельзя доверять власть <…>. Я доказал, будучи очень молодым, что власть была моей слабостью и моим искушением <…>. Я был в большей безопасности в Хогвартсе»), пропускал мимо ушей слухи о том, что Геллерт нашел непобедимую палочку.
Он заработал огромный авторитет в обществе – пока Грин-де-Вальд собирал, а затем и выступал с армией, организовывая пытки и массовые казни. Дамблдор откладывал свою встречу с ним целых пять лет – все годы полнейшего восхождения Грин-де-Вальда, аж пока магическое сообщество, по словам Риты, не «взмолилось» о том, чтобы он сделал хоть что-нибудь: «Я откладывал встречу с ним до тех пор, пока, наконец, не стало слишком позорно делать это и дальше, – скажет Директор. – Ну, ты знаешь, что произошло потом. Я выиграл дуэль. Я выиграл палочку».
Грин-де-Вальд заточил себя в Нурменгарде (очень умно – иначе волшебное сообщество разорвало бы его на куски, сумей оно до него добраться), тюрьме, которую выстроил для своих противников, над входом в которую выбитым в камне значится «Ради Общего Блага» («Каждому свое», ага), а Дамблдор вернулся в Хогвартс, не афишируя, что обладает Старшей палочкой, и храня ее не столько для себя, сколько ради того, чтобы защитить от нее других.
Нельзя сказать, что на этом их с Грин-де-Вальдом история закончилась – по всей видимости, Дамблдор продолжал справляться о нем до конца жизни, ибо в мае он расскажет Гарри: «Говорят, в последние годы он раскаялся, один, в своей камере в Нурменгарде. Я надеюсь, это правда. Мне бы хотелось думать, что он и в самом деле почувствовал ужас и стыд от того, что он сделал». По некоторым – крайне косвенным – свидетельствам, о которых скажу далеко не сейчас, у меня вообще сложилось впечатление, что Дамблдор Геллерта навещал. Или отправил ему сову-другую.
Дамблдор вообще не склонен порывать с людьми. Зато склонен выносить уроки и становиться лучше благодаря всему, что преподносит ему жизнь: «…а я остался <…> учиться жить со своей виной и моим ужасным горем», «…я выучил, что мне нельзя доверять власть», «…я был в большей безопасности в Хогвартсе», – это он-то? человек, который бежал от ответственности, счел самым лучшим для себя быть ответственным за сотни сотен маленьких детей?
Что ж, он действительно вынес огромную массу уроков из того, через что прошел в юности – а прошел он немалое, и мне больно думать, как он собирал себя по кусочкам после смерти сестры. Дож, вернувшийся через год, с ужасом узнал о гибели Арианы, но, по его словам, Дамблдор никогда не распространялся о том случае, потому все его друзья научились не упоминать об этом.
Без сомнения, его печальное прошлое отразилось на его поведении – от него всегда зависело очень много, он скрытен, потому что многое знает, он любит одиночество, и его естественный блок от других людей – шутки и раскованность. Это все следствия ошибок юности, в которой Дамблдор для себя оправдание искать не стремится: «Я доказал, будучи очень молодым, что власть была моей слабостью и моим искушением».
Часть вещей, которые были в его власти, он, конечно, исправил – именно потому, что ему изначально было дано очень многое, он сумел найти своим прошлым темным идеям иное применение, в первую очередь направив его внутрь себя. По сути он сделал себя сверхчеловеком в самом лучшем и высоком понимании этого слова.
Однако, опять же, далеко не сразу – как помним, когда ему на голову свалился Том, Дамблдор, получивший благодаря Геллерту пожизненную прививку от самообмана, а также умение видеть гнилую суть за очаровательной формой, буквально только что победивший Грин-де-Вальда, закрыв эту страницу своей жизни, от воспитания гораздо более мерзкого мальчика самоустранился. И устранялся, подобно тому, как устранялся от прямого столкновения с Геллертом, до тех пор, пока обстоятельства не схватили его за горло всеми своими ложноножками. Потому что, похоже, урок про то, что кому многое дано, с того многое и спросится, выучил в прошлый раз не до конца.
А ведь его учили, наказывая, как это часто бывает, не за грехи, а самими грехами, с самого юношества, какой дорогой ему следует идти – страшной ценой остановив его от неправильной в первый раз. Я думаю, то, что он не сориентировался, когда возник Том, показывает, во-первых, что даже очень взрослый, мудрый и опытный человек не всегда способен сориентироваться, чего от него хотят сверху, во-вторых, что от этого сверху от него не перестанут хотеть – и снова и снова, зачастую очень болезненными методами, будут указывать на нужную дорожку.
Ну, и, в-третьих, то, что каждый сам себя за ручку любовно подводит к тому, что в итоге и получает. Остается только развести руками – errare humanum est. Дамблдор поздновато врубился в то, что от него хотят в ситуации с Томом, но, когда врубился, больше никуда с указанной дорожки не дергался. Он собрал первый Орден и вступил в открытую войну на позиции лидера.
В тот Орден, кстати, вошел и Аб, с которым Директор общался, как помним, и до открытого объявления Томом войны. Действия всегда говорят правду, в отличие от слов – и Мюриэль, и Рита, и все, кто утверждают, что братья прекратили общение, говорят неправду. Верить следует Дожу, который в некрологе написал прямо: «…они возобновили если не близкую дружбу, то точно искреннюю и сердечную». Это не просто похоже на правду, это еще и очень логично. Дамблдор раскаялся. Он полностью признал правоту Аба, практически в тех же словах, что и Аб, поведает Гарри историю своей юности – неужели два брата так за всю жизнь и не поговорили, и Аб до сих пор обижается, не желая идти на контакт? Ах, помилуйте, это же взрослые здоровые мужики. Конечно, это не значит, что обоим не больно – очень даже наоборот – но, как отмечал Хагрид, что ни говори, а родная кровь – она сказывается.
Окончание первой войны с Реддлом привело к тому, что Дамблдор, всю жизнь избегавший ответственности, взвалил на себя еще и Большую Игру. Добровольно и очень смиренно. Ибо понял, наконец, чего от него хотят сверху и какую дорогу ему прокладывают.
Сегодня, зная его историю так полно, я часто ощущаю ужас при мысли о нем. В моей голове в такие моменты единственной лентой вертятся слова, от которых мне горько – за него: «Боже, не дай человеку испытать всего, что он в состоянии вынести».
Например, вот есть у нас Гарри. Едва он дочитывает главу до конца, Гермиона вырывает книгу у него из рук, закрывает ее не глядя, словно это что-то непристойное, а Гарри принимается испытывать потрясение основ.
Какая-то внутренняя уверенность, неиссякаемая определенность рушится в подростке с болью и треском. Что вообще-то хорошо, пусть даже Гарри пока этого не понимает. Он думает, что вслед за Роном и палочкой только что навсегда потерял Дамблдора. С другой стороны, лишь потеряв все, как правило, находишь самого себя. Дамблдор вновь дает Гарри возможность выучиться на его ошибках – образование парня (слово, каковое происходит от слова «образец», которое исходит от «образа» и заканчивается в «образе» – возможно, в том самом образе Дамблдора, который поселился в Гарри, хотя парню кажется, что он разрушен) не закончилось.
Теперь, в отличие от прошлых лет, Гарри прямо и ответственно сравнивает себя с Директором – отныне не слепо, но критикуя. У него был идеальный образ Дамблдора, которому тот – о, ужас! – не соответствовал. А поскольку всякий идеал так или иначе дает дискомфорт (либо сам по себе, либо потому, что идеалом не оказывается), Гарри ожидаемо заводится, практически мгновенно превратившись в Человека-Не-Слышу-Вопросы-Врезаюсь-В-Стены, когда Гермиона пытается его успокоить. Ибо гнев (как вторая ступень к испитию чаши, уготованной Гарри Директором, после Директора) придает сил.
Кроме прочего, Дамблдор обставляет все железобетонно – Гермионе нечего возразить по этому поводу – вот вам письмо, вот вам «право править» и все в таком духе. Сделано очень здорово, и именно от этого Гарри отталкивается в первую очередь. Для него не существует никаких «но» и «если» – Дамблдор писал это письмо? да. Все остальное для Гарри не имеет смысла. И я даже не знаю, радоваться ли мне или ужасаться подобному узколобому идиотизму. Ведь, как обычно, Гарри прав ровно в той же мере, что и Гермиона. И не прав в той же.
Потому что Гарри, отчаянно сдерживая себя до последнего, чтобы не наорать на подругу, вполне резонно замечает: «Я так и думал, что ты так скажешь. Думал, ты скажешь, что они были молоды. Они были такого же возраста, как мы сейчас. И вот мы здесь, рискуем жизнями, чтобы бороться с Темными Силами, а где был он? тусил со своим новым лучшим другом, планируя, как они будут править маглами <…>. Он не был один! У него были брат и сестра в качестве компании, его сестра-сквиб, которую он держал взаперти –».
Раньше Дамблдору был неведом мир чувств, он был занят только магией – ему натурально вскружило голову его первое путешествие в этот прекрасный и опасный мир, в котором его активно поддерживал Геллерт – не отвечая Дамблдору взаимностью, он питал его иллюзии, ибо нуждался в таком блестящем стороннике. Дамблдор считал общение с Геллертом тем, что вернуло его к жизни, а на самом деле это было катастрофой. Самая большая трагедия того периода его жизни (и под словом «трагедия» я имею ввиду нечто по-настоящему ужасающее) заключается в том, что будущий Директор и глава Ордена Феникса был готов принять Темную сторону ради мужчины, который жесточайшим образом использовал его. Воистину, самые ужасные вещи на свете совершают люди, которые искренне думают, что поступают ради общего блага. Особенно – если в дело вовлечена какая-нибудь любовь.
Естественно, Ариана была заброшена. Любовная зависимость сродни наркомании – со всеми последствиями, вытекающими на окружающих. «Уход за Арианой отошел на второй план, – станет рассказывать Аб, – пока они составляли свои великие планы о новом волшебном порядке или искали Дары – или что угодно, в чем они были так заинтересованы. Великие планы ради блага всего волшебного сообщества, и, если об одной маленькой девочке забыли, какая разница, если Альбус работал ради общего блага?»
Это все понятно. С одной стороны, убегание от проблем, реальных проблем, оправдываемое тем, что Ариане «не придется прятаться, когда они изменят мир и выведут волшебников из подполья, показав маглам их место» (так в пылу ссоры кричал Геллерт Абу – и так, без сомнения, он гипнотизировал Дамблдора все те недели). С другой стороны, та самая страшная и одновременно прекрасная сила – любовь. Хотя в данном случае скорее болезнь. И страх ответственности перед семьей, вместо которой Дамблдор выбрал высокие слова об ответственности перед всем человечеством в целом – ведь оно, человечество, подальше будет, порасплывчатей, да и ответственность перед ним какая-то менее конкретная, чем перед собственной сестрой, которая нуждается в абсолютно прямой заботе – и не когда-нибудь потом и где-нибудь там, а прямо здесь и прямо сейчас.
В своей сумасшедшей, агонизирующей погоне за Общим Благом Дамблдор не учел самого важного – Общее Благо, которое ведет к отрицанию потребностей пусть даже одного маленького, больного, нуждающегося в помощи человека (тем более – ребенка) – это уже не Благо. Прав был Достоевский, когда писал про эту свою слезинку ребенка, воистину, очень прав.
И самое болезненное – то, что в глубине души Дамблдор все это прекрасно понимал. В мае он признается Гарри: «О, у меня были некоторые сомнения. Я успокаивал совесть пустыми словами. Это все будет для общего блага, а любой вред, который будет причинен, будет сотню раз компенсирован выгодами для волшебников. Знал ли я в глубине души, чем был Геллерт Грин-де-Вальд? Я думаю, да, но я закрывал глаза. Если бы планы, которые мы составляли, осуществились, сбылись бы все мои мечты». Дамблдор мечтал о власти и, как ни странно, одновременно с этим – свободе от ответственности, он мечтал быть известным, лидером, признанным, он мечтал сделать что-то настолько значительное, что потрясло бы весь мир, изменив его в корне.
Что ж, в каком-то смысле он получил все, кроме свободы от ответственности, только не теми путями, о которых грезил – и заплатив гораздо большую цену, чем готов был заплатить.
«А потом… ты знаешь, что произошло. Реальность вернулась в виде моего грубого, необразованного и бесконечно лучшего брата», – поведает Директор.
«После нескольких недель всего этого с меня хватало уже, – скажет Аберфорт. – Скоро я должен был вернуться в Хогвартс, так что я сказал им, я сказал им обоим в лицо, прямо как тебе, я сказал ему, что ему лучше прекратить это сейчас. Ты не можешь с ней путешествовать, она не в порядке, ты не можешь взять ее с собой, не важно, куда вы хотите отправиться, когда толкаете свои умные речи, пытаясь себя оправдать и подбить на это. Ему это не понравилось. Ему совсем это не понравилось, Грин-де-Вальду. Он разозлился. Он сказал мне, каким глупым маленьким мальчиком я был, пытаясь встать на его пути и пути моего великолепного брата…»
Но не только Геллерту это не понравилось: «Я не хотел слышать правду, которую он мне кричал, – скажет Директор. – Я не хотел слушать, что я не могу отправиться на поиски Даров со слабой и нестабильной сестрой на руках».
«И случился спор… – продолжит Аб, – и я вытащил палочку, а он – свою, и лучший друг моего брата применил ко мне Круциатус».
«Спор превратился в драку, – станет вторить ему Директор. – Грин-де-Вальд потерял контроль. То, что я всегда в нем чувствовал, но претворялся, что нет, теперь в ужасном виде вылезло наружу».
«…и Альбус пытался его остановить, и мы все трое потом сражались, и вспышки света и удары ее вывели, она не могла этого выносить, – расскажет резко побледневший Аберфорт с перекошенным от невыносимой боли лицом, – я думаю, она хотела помочь, но она не понимала, что делает –»
Похоже, Ариана ввязалась в драку, приняв форму Обскури и напав на всех троих. Они защищались – то есть проклятье, попавшее в нее, не было случайным.
«-- и я не знаю, который из нас сделал это, это мог быть любой из нас, – прохрипит Аб, – и она была мертва».
«И Ариана… после всей заботы и опеки моей матери… лежала мертвая на полу», – завершит Директор. И он в свою очередь добавит: «Видишь ли, я так и не узнал, кто из нас в ту последнюю, ужасную драку на самом деле вызвал проклятье, которое убило мою сестру. Ты можешь назвать меня трусом – ты будешь прав. Гарри, больше всего на свете я боялся узнать, что это я стал причиной ее смерти, не просто из-за моей заносчивости и глупости, но что именно я нанес удар, который забрал ее жизнь».
Оба брата крайне неясно рассказывают об этой сцене – может, и к лучшему, подробности я знать не хочу. Я знаю только то, что, если Ариана стала Обскури и начала нападать на всех троих, ее братья защищались и пытались ее угомонить – иное невозможно – и мне нужно очень много выпить и занюхнуть, чтобы предположить, что сделать это они пытались, используя Смертоносные проклятья.
Конечно, обо всем этом куске истории в книге Риты ни слова – она лишь говорит, что менее, чем через два месяца Дамблдор и Грин-де-Вальд расстались и не видели друг друга до самой финальной дуэли. «Причина была в смерти бедной маленькой Арианы, я думаю, – приводит Рита слова Батильды. – Это было ужасным шоком. Геллерт был в их доме, когда это случилось, и он пришел ко мне, весь трясся, сказал, что хочет вернуться домой завтра же. Ужасно расстроен, знаете. Так что я организовала Портал и больше его не видела».
Причины такой острой реакции Грин-де-Вальда на смерть в общем безразличной ему Арианы Аб будет объяснять по-своему: «Конечно, Грин-де-Вальд сбежал. За ним и так числился небольшой послужной список в его стране, и он не хотел, чтобы Ариану тоже записали на его счет».
Я полагаю, это правда, но не вся. Я думаю, для Геллерта действительно явилось большим ударом то, как он раскрылся перед Дамблдором и как его подвел. Были там какие-то чувства, как бывает у маньяков по отношению к жертвам, я практически в этом уверена – он искренне желал оставаться с ним ближайшими друзьями (только, разумеется, по своим причинам). Кроме того, мне кажется, он понимал, что будет с ним, попадись он на глаза немного отошедшему от первого шока Дамблдору – или Абу. Или обоим. Так что не только – и не столько – тюрьмы и нового дела на его счету боялся Геллерт.
«Альбус был вне себя от горя, – продолжает Батильда в интервью с Ритой, – после смерти Арианы. Это было так ужасно для обоих братьев. Они потеряли всех, кроме друг друга. Не мудрено, что возникла небольшая вспыльчивость. Аберфорт обвинял Альбуса, вы знаете, как обычно делают люди в таких ужасных обстоятельствах. Но Аберфорт всегда говорил с сумасшедшинкой, бедный мальчик. Все равно, сломать Альбусу нос на похоронах было непристойно».
Об истории с носом говорила и Мюриэль. Практически в тех же словах. И еще добавила, что Директор даже не защищался. Оно и понятно – свою вину во всем произошедшем Дамблдор осознал еще тогда.
Более того, следите за руками: в Игре-2 Гарри теряет все кости в руке; в Игре-6 Драко ломает Гарри нос. Я могу представить еще с десяток вывихов и переломов соучеников Гарри за все годы его обучения в школе – с которыми максимум за ночь превосходно справляются мадам Помфри и ее «Костерост». А Аб заехал брату кулаком в нос – и, как результат, Дамблдор ходит с переломанным носом до конца жизни. Что, он не мог его починить? Да оставьте вы.
Он не захотел этого делать намеренно, считая себя не в праве, решив, что сломанный нос на всю жизнь останется ему напоминанием об ошибках и грехе, которые он совершил.
«Грин-де-Вальд сбежал, как мог бы предположить любой, кроме меня. Он исчез – вместе с его планами по завоеванию власти, его идеями пыток маглов и мечтами о Дарах Смерти, мечтами, в которых я поощрял и помогал ему. Он убежал, а я остался хоронить сестру и учиться жить со своей виной и своим ужасным горем – ценой моего позора», – расскажет Директор, будто подтверждая: сломанный нос – маленькая расплата – неравная, но тем не менее – за бесстыдство двух месяцев; вечное напоминание о падении и позоре.
Проходили годы – очень многое в том, как Дамблдор послеживал за Грин-де-Вальдом, оказывается похожим на его отношение к набирающему силы Тому Реддлу. Он смотрел сквозь пальцы, как Геллерт терроризирует Европу, боясь возвращаться в Англию, где оставался Дамблдор, посвятивший себя служению Хогвартсу («…мне, тем временем, несколько раз предлагали пост Министра Магии. Конечно, я отказывался. Я выучил, что мне нельзя доверять власть <…>. Я доказал, будучи очень молодым, что власть была моей слабостью и моим искушением <…>. Я был в большей безопасности в Хогвартсе»), пропускал мимо ушей слухи о том, что Геллерт нашел непобедимую палочку.
Он заработал огромный авторитет в обществе – пока Грин-де-Вальд собирал, а затем и выступал с армией, организовывая пытки и массовые казни. Дамблдор откладывал свою встречу с ним целых пять лет – все годы полнейшего восхождения Грин-де-Вальда, аж пока магическое сообщество, по словам Риты, не «взмолилось» о том, чтобы он сделал хоть что-нибудь: «Я откладывал встречу с ним до тех пор, пока, наконец, не стало слишком позорно делать это и дальше, – скажет Директор. – Ну, ты знаешь, что произошло потом. Я выиграл дуэль. Я выиграл палочку».
Грин-де-Вальд заточил себя в Нурменгарде (очень умно – иначе волшебное сообщество разорвало бы его на куски, сумей оно до него добраться), тюрьме, которую выстроил для своих противников, над входом в которую выбитым в камне значится «Ради Общего Блага» («Каждому свое», ага), а Дамблдор вернулся в Хогвартс, не афишируя, что обладает Старшей палочкой, и храня ее не столько для себя, сколько ради того, чтобы защитить от нее других.
Нельзя сказать, что на этом их с Грин-де-Вальдом история закончилась – по всей видимости, Дамблдор продолжал справляться о нем до конца жизни, ибо в мае он расскажет Гарри: «Говорят, в последние годы он раскаялся, один, в своей камере в Нурменгарде. Я надеюсь, это правда. Мне бы хотелось думать, что он и в самом деле почувствовал ужас и стыд от того, что он сделал». По некоторым – крайне косвенным – свидетельствам, о которых скажу далеко не сейчас, у меня вообще сложилось впечатление, что Дамблдор Геллерта навещал. Или отправил ему сову-другую.
Дамблдор вообще не склонен порывать с людьми. Зато склонен выносить уроки и становиться лучше благодаря всему, что преподносит ему жизнь: «…а я остался <…> учиться жить со своей виной и моим ужасным горем», «…я выучил, что мне нельзя доверять власть», «…я был в большей безопасности в Хогвартсе», – это он-то? человек, который бежал от ответственности, счел самым лучшим для себя быть ответственным за сотни сотен маленьких детей?
Что ж, он действительно вынес огромную массу уроков из того, через что прошел в юности – а прошел он немалое, и мне больно думать, как он собирал себя по кусочкам после смерти сестры. Дож, вернувшийся через год, с ужасом узнал о гибели Арианы, но, по его словам, Дамблдор никогда не распространялся о том случае, потому все его друзья научились не упоминать об этом.
Без сомнения, его печальное прошлое отразилось на его поведении – от него всегда зависело очень много, он скрытен, потому что многое знает, он любит одиночество, и его естественный блок от других людей – шутки и раскованность. Это все следствия ошибок юности, в которой Дамблдор для себя оправдание искать не стремится: «Я доказал, будучи очень молодым, что власть была моей слабостью и моим искушением».
Часть вещей, которые были в его власти, он, конечно, исправил – именно потому, что ему изначально было дано очень многое, он сумел найти своим прошлым темным идеям иное применение, в первую очередь направив его внутрь себя. По сути он сделал себя сверхчеловеком в самом лучшем и высоком понимании этого слова.
Однако, опять же, далеко не сразу – как помним, когда ему на голову свалился Том, Дамблдор, получивший благодаря Геллерту пожизненную прививку от самообмана, а также умение видеть гнилую суть за очаровательной формой, буквально только что победивший Грин-де-Вальда, закрыв эту страницу своей жизни, от воспитания гораздо более мерзкого мальчика самоустранился. И устранялся, подобно тому, как устранялся от прямого столкновения с Геллертом, до тех пор, пока обстоятельства не схватили его за горло всеми своими ложноножками. Потому что, похоже, урок про то, что кому многое дано, с того многое и спросится, выучил в прошлый раз не до конца.
А ведь его учили, наказывая, как это часто бывает, не за грехи, а самими грехами, с самого юношества, какой дорогой ему следует идти – страшной ценой остановив его от неправильной в первый раз. Я думаю, то, что он не сориентировался, когда возник Том, показывает, во-первых, что даже очень взрослый, мудрый и опытный человек не всегда способен сориентироваться, чего от него хотят сверху, во-вторых, что от этого сверху от него не перестанут хотеть – и снова и снова, зачастую очень болезненными методами, будут указывать на нужную дорожку.
Ну, и, в-третьих, то, что каждый сам себя за ручку любовно подводит к тому, что в итоге и получает. Остается только развести руками – errare humanum est. Дамблдор поздновато врубился в то, что от него хотят в ситуации с Томом, но, когда врубился, больше никуда с указанной дорожки не дергался. Он собрал первый Орден и вступил в открытую войну на позиции лидера.
В тот Орден, кстати, вошел и Аб, с которым Директор общался, как помним, и до открытого объявления Томом войны. Действия всегда говорят правду, в отличие от слов – и Мюриэль, и Рита, и все, кто утверждают, что братья прекратили общение, говорят неправду. Верить следует Дожу, который в некрологе написал прямо: «…они возобновили если не близкую дружбу, то точно искреннюю и сердечную». Это не просто похоже на правду, это еще и очень логично. Дамблдор раскаялся. Он полностью признал правоту Аба, практически в тех же словах, что и Аб, поведает Гарри историю своей юности – неужели два брата так за всю жизнь и не поговорили, и Аб до сих пор обижается, не желая идти на контакт? Ах, помилуйте, это же взрослые здоровые мужики. Конечно, это не значит, что обоим не больно – очень даже наоборот – но, как отмечал Хагрид, что ни говори, а родная кровь – она сказывается.
Окончание первой войны с Реддлом привело к тому, что Дамблдор, всю жизнь избегавший ответственности, взвалил на себя еще и Большую Игру. Добровольно и очень смиренно. Ибо понял, наконец, чего от него хотят сверху и какую дорогу ему прокладывают.
Сегодня, зная его историю так полно, я часто ощущаю ужас при мысли о нем. В моей голове в такие моменты единственной лентой вертятся слова, от которых мне горько – за него: «Боже, не дай человеку испытать всего, что он в состоянии вынести».
Например, вот есть у нас Гарри. Едва он дочитывает главу до конца, Гермиона вырывает книгу у него из рук, закрывает ее не глядя, словно это что-то непристойное, а Гарри принимается испытывать потрясение основ.
Какая-то внутренняя уверенность, неиссякаемая определенность рушится в подростке с болью и треском. Что вообще-то хорошо, пусть даже Гарри пока этого не понимает. Он думает, что вслед за Роном и палочкой только что навсегда потерял Дамблдора. С другой стороны, лишь потеряв все, как правило, находишь самого себя. Дамблдор вновь дает Гарри возможность выучиться на его ошибках – образование парня (слово, каковое происходит от слова «образец», которое исходит от «образа» и заканчивается в «образе» – возможно, в том самом образе Дамблдора, который поселился в Гарри, хотя парню кажется, что он разрушен) не закончилось.
Теперь, в отличие от прошлых лет, Гарри прямо и ответственно сравнивает себя с Директором – отныне не слепо, но критикуя. У него был идеальный образ Дамблдора, которому тот – о, ужас! – не соответствовал. А поскольку всякий идеал так или иначе дает дискомфорт (либо сам по себе, либо потому, что идеалом не оказывается), Гарри ожидаемо заводится, практически мгновенно превратившись в Человека-Не-Слышу-Вопросы-Врезаюсь-В-Стены, когда Гермиона пытается его успокоить. Ибо гнев (как вторая ступень к испитию чаши, уготованной Гарри Директором, после Директора) придает сил.
Кроме прочего, Дамблдор обставляет все железобетонно – Гермионе нечего возразить по этому поводу – вот вам письмо, вот вам «право править» и все в таком духе. Сделано очень здорово, и именно от этого Гарри отталкивается в первую очередь. Для него не существует никаких «но» и «если» – Дамблдор писал это письмо? да. Все остальное для Гарри не имеет смысла. И я даже не знаю, радоваться ли мне или ужасаться подобному узколобому идиотизму. Ведь, как обычно, Гарри прав ровно в той же мере, что и Гермиона. И не прав в той же.
Потому что Гарри, отчаянно сдерживая себя до последнего, чтобы не наорать на подругу, вполне резонно замечает: «Я так и думал, что ты так скажешь. Думал, ты скажешь, что они были молоды. Они были такого же возраста, как мы сейчас. И вот мы здесь, рискуем жизнями, чтобы бороться с Темными Силами, а где был он? тусил со своим новым лучшим другом, планируя, как они будут править маглами <…>. Он не был один! У него были брат и сестра в качестве компании, его сестра-сквиб, которую он держал взаперти –».
С другой стороны, Гермиона, не оправдывая то, что Директор написал в письме, отмечает: «…его мать только что умерла, он застрял в одиночестве в доме – <…> Я не верю в это. Что бы ни было не так с этой девочкой, я не думаю, что она была сквибом. Дамблдор, которого мы знали, никогда бы не позволил – <…> Он изменился, Гарри, он изменился! Все просто! Может, он и вправду верил в эти вещи, когда ему было семнадцать, но всю последующую жизнь он посвятил борьбе с Темными Искусствами. Дамблдор был тем, кто остановил Грин-де-Вальда, кто всегда голосовал за защиту маглов и права маглорожденных, кто боролся Сам-Знаешь-с-Кем с самого начала и кто умер, пытаясь его уничтожить!»
Ребята повскакивали на ноги. Книга Риты лежит ровно между Гарри и Гермионой – Дамблдор с ее обложки печально улыбается обоим. Прямо в этот миг, я думаю, Финеас спешно транслирует все, о чем говорят детишки, портрету мазохиста-Директора, который, наверное, задается вопросом, не написать ли ему у себя на лбу «Человек». Дамблдор с небес, вероятно, глядит на Гарри с горечью, которая, разумеется, не превращается в обиду – ибо Дамблдор действительно умеет быть снисходительным. Каким Гарри быть никогда не стремился.
Я все понимаю, конечно, перед Гарри лишь часть истории – он пока не располагает ни комментариями Аба, ни пояснениями самого Директора. Но ведь Гермиона знает не больше Гарри – а понимает Дамблдора гораздо лучше него.
Я имею ввиду… конечно, Рита оставила огромное количество возможностей для передергивания, неоднозначностей и догадок. Это ее стиль. Задавать больше неоднозначных вопросов, которые однозначно намекают на («И как умерла загадочная Ариана? Была ли она неумышленной жертвой какого-то Темного обряда? Не перешла ли она дорогу тому, чему не следовало бы, пока двое молодых людей практиковались в достижении цели на пути к славе и власти? Возможно ли, что Ариана Дамблдор стала первой, кто умер «ради общего блага»?), но не дают совершенно никаких ответов – все чистенько, гладенько, клеветы никакой, а неприятный осадок – есть.
Причем сама же Рита, не относящаяся к категории скитернутых особей, очень точно передает и предсказывает реакцию этих, нравственно сдвинутых, обвиняющих Дамблдора во всех грехах (включая и манипуляции в рамках Игры): «Какой удар для тех, кто всегда представлял Дамблдора величайшим заступником маглорожденных! Какими пустыми покажутся все эти речи о правах маглов в свете убийственных новых свидетельств! Каким подлым покажется Альбус Дамблдор, занятый планированием своего восхода к власти в то время, как он должен был оплакивать мать и ухаживать за сестрой! Вне сомнений, те, кто упорны в желании оставить Дамблдора на его рушащемся пьедестале, станут блеять, что он, в конце концов, не стал действовать в соответствии со своими планами, что он, возможно, поменял мнение, пришел в чувства. Тем не менее, правда кажется еще более шокирующей».
По всей видимости, Рита прям свунилась до смерти, когда писала книгу, и сие немудрено, я и сама рыдаю периодически. Потому что… ну… право слово, знакомство с биографией Дамблдора через книгу Риты? Вы серьезно? С какой радостью все поверили каждому ее слову – и Гарри тоже, тот еще скитернутый – несмотря на то, что нам ранее очень ясно показали, как лихо она умеет трактовать факты максимально грязным образом (кстати, с этого Гермиона и начинает спор с Гарри: «…не забудь, Гарри, это творение Риты Скитер»)!
В общем и целом, оскорбление нравственности после прочитанного, если оно и имеет место, можно считать самостоятельно нанесенным любым, кто прочитал, поверил и оскорбился. Гарри – в первую очередь. Ведь надо же было таки дотащиться до осознания элементарного: даже те действия, о которых быстро упомянула Гермиона в своем контраргументе, гораздо важнее, чем слова, которые Дамблдор писал в письме в столь юном возрасте.
Ведь, в конце концов, не так уж сложно догадаться, что то, что он всю последующую жизнь занимался прямо противоположным тому, о чем писал – не только свидетельство, как много он понял с тех пор, но и великая ценность. Ибо «чья проповедь нищеты убедительнее, то есть для богатства убийственнее – отродясь-нищего или богача, отрекшегося»? Я надеюсь, я понятно выражаюсь.
Ему очень легко было бы, если бы он тогда ушел – с Дожем, в путешествие, куда угодно. Я знаю, Аб сказал бы сейчас, что лучше бы он так и сделал.
Но я не уверена, что это было бы лучше. Да, смерть Арианы и программа партии Геллерта, составленная по сути Дамблдором и частично перекочевавшая в идеологию Тома впоследствии, это ужасно. Но дело в том, что никто не знает, как бы там все обернулось, не останься Директор с семьей в то лето. Может быть, он бы встретил Геллерта чуть позже, в другом месте – и когда никакая Ариана не сумела бы спасти Дамблдора от того, чтобы он перешел черту.
Я все равно считаю, что доброе намерение – штука очень важная. Он мог бы уйти, мог бы бросить сестру и брата. Но это все равно, что бросить умирающую мать, потому что тебе больно на нее смотреть, или болеющего мужа, с которым случилось несчастье, и он стал инвалидом – мол, с ним, конечно, было хорошо, но теперь, когда смотреть на него больно, а ухаживать за ним – душно, пора расстаться, да, очевидно, так, спасибо за приятное общее прошлое.
Неправильно это. Неправильно. Нужно оставаться, нужно возвращаться, нужно бороться – какие бы чувства при этом ни рождались, и на какие бы ошибки они потом ни толкали (хотя, конечно, лучше не поддаваться их провокациям, чтобы потом не было мучительно стыдно).
Так вот – первоначальное намерение Дамблдора было добрым. Для меня именно это имеет значение. А дальше уж он сам (понятное дело, хорошему человеку и перед стеной бывает стыдно) и уважаемая общественность, вдаваясь в детали, могут клеймить его на все лады до бесконечности. Мне все равно, для меня он был самым лучшим и им останется, мне плевать, что воображаемая и реальная общественность думают на этот счет. Иначе у меня совсем не останется времени на мысли умных людей.
Когда я переживала насчет близкой родственницы и своего отношения к ее болезни, я регулярно сравнивала себя с 17-летним Дамблдором. И, нормально относясь к тому, что сделал и чувствовал он, проклинала себя за собственные чувства, абсолютно схожие с его – «пойманный в ловушку, теряющий годы!» Мне кажется, это было так в моем стиле – так драматично, так типично… по-гриффиндорски. И абсолютно зря.
Это же все о двойных стандартах – мое нещадное и абсолютно ненужное издевательство над самой собой. Наши с Дамблдором ситуации схожи – с той только разницей, что ни к чему катастрофическому мое поведение не привело, ибо я масштабом не в пример меньше. Но я человек Дамблдора даже в этом и готова была гнобить себя за давно исправленную низость отношения до конца жизни (благо, к Рите не обратилась, чтобы она в красках ее описала). Но, я думаю теперь, если я прощаю Дамблдору то, что он сам себе никогда не простит, я должна простить себе свою собственную – гораздо меньшую ошибку.
Да, это очень больно, между прочим, но мне кажется, это – одна из самых важных вещей в жизни – уметь исправлять свои ошибки и после этого прощать себя за их совершение. Дамблдор, как видим, себя не простил даже после смерти («Ты не можешь презирать меня больше, чем я презираю себя»). В моем случае это стало тем, что усугубило полгода и без того тяжелого внутреннего состояния.
Да, тяжело дается искупление – и я не знаю, о ком из нас двоих я сейчас говорю. Но я прощаю себя. Прощаю, потому что ничего дурного я по итогу не сделала. Напротив, я делала только хорошее – как могла и насколько могла. Я себя прощаю, слава Дамблдору. За последние два дня я приподняла целую гору, что не намеревалась делать на этом этапе Игры, и копнула очень глубоко – в себя. И вновь, как годы назад, спасибо Игре, вытащила.
Подобно тому, как ты погружаешься в лабиринт с желанием найти Кубок, ты ныряешь в Игру за ответами – и всякий раз находишь себя. Оказалось, простить себя едва ли не тяжелее, чем другого – когда я прощала других, так больно не было. И страшно осознавать, что все это – лишь верхушка айсберга и о Дамблдоре, и обо мне, и что еще очень многое предстоит узнать и проработать. Но я рада, что сегодня сумела написать все это – потому что дала себе зарок: если не справлюсь с ситуацией с родственницей, не буду вообще ничего писать. Вообще. Игра останется незаконченной.
Я бы очень хотела, чтобы и Дамблдор себя простил. Он очень строг к себе, но факт остается фактом – даже в жестоком угаре поисков Даров он все равно думал об ответственности (перед маглами, Арианой и братом), от которой так много бегал. Он не был ужасным человеком, Персиваль, растерзавший обидчиков дочери, и Кендра, сильная, волевая и любящая, успели очень многому научить своих детей. И Дамблдор, сколь бы этому ни противился, всегда думал о других.
Да, для Гарри, которого Дамблдор всю дорогу признает лучше себя в некоторых аспектах, все очень просто. Черное – это черное, а белое – это белое. Он не оправдывает Темные Искусства и идеи господства волшебников, он не разбирает поведение людей, все это поддерживающих, с точки зрения психоанализа, а просто сразу дает им по одному месту. Он не усложняет и не пытается быть гуманнее добра, с чего начинал Дамблдор, прежде чем разлететься вдребезги. Он раз и навсегда решил, с кем он, и уже не дергается, не впадает в такую заумь, что в итоге разносит половину Европы за то, что кто-то где-то раздавил мышонка.
Но Гарри родился в другое время и при других обстоятельствах. Дамблдор не знал, что такое война и гонения из-за статуса крови. И не стоило ли Гарри (да и некоторым иным вполне реальным, а не вымышленным людям), прежде чем вопить в адрес Дамблдора миллион обвинений, сначала подумать, что для него все так просто, так элементарно и так, несомненно, правильно именно потому, что этому прямому, как шпала, пути и этому не менее правильному отношению ко всему дерьму, в котором он, Гарри, оказался, научил его тот самый человек, который в свое время отлично понял, как сильно заблуждался, будучи в возрасте Гарри, когда у него не было никого, ни единого наставника или хотя бы равного, кто бы сказал ему, что он ошибается и направил на верный путь?
А вот Гермиона все это прекрасно понимает. И потому следующим, что Гарри слышит от нее, становится:
- Мне жаль, Гарри, но я думаю, что настоящая причина того, что ты так зол – в том, что Дамблдор сам никогда не рассказывал тебе ничего из этого.
И, поскольку она попадает в самое яблочко, реакция Гарри становится соответствующей:
- Может, и так! – громко вопит подросток то, что съедало его с самого сентября. Злость и колоссальных размеров разочарование разрывают его изнутри. – Посмотри, чего он от меня хотел! Рискуй своей жизнью, Гарри! И снова! И снова! И не ожидай, что я все объясню, просто слепо доверяй мне, верь, что я знаю, что делаю, верь, даже если я не верю тебе! Никогда всей правды! Никогда!
Как бы много общего Гарри обнаружил бы со Снейпом, если бы они однажды оказались в запертой комнате с двумя бокалами и ящиком виски…
Голос Гарри срывается. В полной тишине, холоде, пустоте, окружающих их с Гермионой, ему кажется, что они вдвоем – абсолютно одни в целом мире, такие же незначительные, как маленькие насекомые, нечто, не больше муравья под огромным, безразличным, ледяным небом. Дотянуться до цели кажется совершенно невозможным. Никто из них понятия не имеет, что им делать в этом огромном и чертовски сложно сплетенном мире… Столько тупиков, заброшенных вонючих комнат, ложных надежд… и слишком много грязи. Гарри не видит из этого выхода.
- Он любил тебя, – негромко и непривычно мягко произносит Гермиона. – Я знаю, он тебя любил.
Гарри не может злиться дальше. Он полностью истощен.
- Я не знаю, кого он любил, Гермиона, – холодно произносит он, выпрямляясь, – но этим человеком никогда не был я. Это не любовь – бардак, в котором он нас оставил. Он, черт возьми, делился тем, о чем действительно думал, с Геллертом Грин-де-Вальдом гораздо больше, чем делился со мной.
Гарри поднимает палочку Гермионы, которую в пылу бросил в снег, и вновь усаживается у входа в палатку.
- Спасибо за чай. Я закончу дежурство. Ты возвращайся в тепло.
Гермиона колеблется, однако, понимая, что Гарри закрылся для любого продолжения темы, уступает. Юная надежда и опора всей Игры не забывает подхватить с земли книгу Риты, прежде чем скрыться в палатке. Когда она проходит мимо друга, она едва ощутимо проводит ладонью по его волосам. Гарри плотно смеживает веки. Он ненавидит себя в этот миг так сильно, что ему не хочется жить, потому что его проклятая голова с надеждой вертит в себе единственную мысль: может быть, Гермиона права, и Дамблдору действительно не было на него плевать?..
Ну… как бы сказать… мягко говоря, я бы не относилась слишком серьезно ко всему, что успевает исполнить после прочтения главы мозговой трест «Гарри Поттер», и додумывается повернуться и брякнуть язык основного участника оного треста, в первую очередь оскорбив не того, в адрес кого сие было брякнуто, а себя самого. Гарри… как бы сказать… лицо заинтересованное, к тому же, склонное к поспешным выводам, обидчивое, мнительное… ну, и находящееся под колоссальным давлением обстоятельств, следует признать.
И, между прочим, парень неплохо держится – вон, с Гермионой вел себя максимально уважительно. Наверное, не в последнюю очередь потому, что она никогда не дружила с Грин-де-Вальдом и не скрывала от него факт дружбы. Для Гарри ведь сокрытие правды хуже лжи. Можно понять. Но понять вообще все можно – а я бы все-таки попросила Риту, чтобы во время переиздания книги, ежели таковое случится, копию для идиотов покрупнее писала.
Потому что Гарри не прав. Дамблдор выпустил книгу в большей мере именно для него. И, возможно, Снейпа, ибо тоже – любимый. Он поделился с Гарри всем – включая и свой позор. Может быть, стоило, прошу прощения, прочитать всю книгу и лишь после этого делать выводы? Хотя нет, не стоило – Гарри, как известно, выводы по волнующим его темам, методично отделив мух от котлет, делать не способен. Уж лучше пусть парень получает педантично отфильтрованную информацию из уст Гермионы, которая, можно не сомневаться, и книгу прочитает, и выводы сделает, и приблизительно догадается, где правда, а где – скитерахнутость.
Вообще, спустя столько лет я прихожу к мысли, что мне очень нравится поступок Дамблдора – дать рассказать правду о себе не кому-нибудь, а именно Рите, которая принадлежит к той опасной породе людей, которые одно и то же могут подать и как величайшую низость, и как самую невинную шутку.
Мне кажется, в этом – вся его обнаженная совесть, которая зудит до самого конца, самоцензура, если угодно. Но не из страха (по крайней мере, не перед людьми), а потому, что так надо. Потому что только люди, мучительно переживающие свои ошибки, идут в завтрашний день, только люди, осознавшие свою вину, способны строить новый мир.
Раскаявшийся грешник всегда дороже тем, кто сверху, чем среднестатистический праведник, потому что совершил невероятный внутренний скачок, ему пришлось выпрыгивать из ямы. У праведника, условно говоря, был сердечный рейтинг +3, стал +4 – прирост всего единичка. А у грешника, допусти, было -10, а теперь +1. Прирост 11. В 11 раз больше, чем у праведника! Это большая победа.
Может быть, потому Дамблдору и было доверено так много – сыграла роль разница потенциалов между тем, чем он мог бы стать, и тем, кем он в итоге стал. Ведь, следует согласиться, если бы Темным магом стал Дамблдор, в сторонке бы курили, нервно подергиваясь, не только Грин-де-Вальд и Том, но и весь остальной, мать его, мир.
Причем очень важно, что Дамблдор не сам написал о себе, а доверил это Рите – очень важно для его искупления. Неожиданно объяснение нахожу у Пушкина: «Толпа жадно читает записки, исповеди etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы, – иначе. – Писать свои memoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможно физически. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью, – на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать – braver – суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно». Я бы еще добавила, что и суд тех, кого любишь, тоже презирать не получается – уверена, пока Гарри орет и переживает, Дамблдорам – в небе и на портрете – больно и стыдно.
Парадокс в том, что Дамблдор, считающий ложь недопустимой, написал бы гораздо менее полную и откровенную историю своей жизни, чем та, которая получилась у Риты, не гнушающейся клеветать, домысливать и намекать на. Поэтому то, что Директор так себя наказал – это очень хорошая идея. Целиком в его духе. Как подумаешь, каково это – знать, что самое худшее из твоей жизни перескажет скандальная журналистка в своем, так сказать, стиле, и это будут читать миллионы людей… но, наверное, он осознавал, что идиоты обязательно выставят себя идиотами, и беспокоился лишь о реакции самых близких.
Ибо что тут сказать об остальных? Так устроен мир. Известны случаи, например, когда после произнесения Буддой речей огромное количество слушателей покидало его. Он в таких случаях с неизменным спокойствием замечал: «Зерно отделилось от мякины; оставшаяся община, сильная убеждением, учреждена. Хорошо, что эти гордецы удалились». Мне кажется, Дамблдор придерживался того же мнения, и хотелось бы верить, что после пируэта вниз головой с Астрономической башни ему предоставилась возможность обсудить это с Буддой лично.
Что же касается Гарри… весьма символично (и очередная интертекстуальная параллель), что коренной перелом не только в Игре, но и в сознании Гарри случается именно в Рождество. Вот она – «правда», которую парень так хотел узнать – с каким жутким удовольствием, предвкушением он открывал книгу! – но счастья ему это не принесло. Как там он говорил?
«Правда – это прекраснейшая, но одновременно и опаснейшая вещь. А потому к ней надо подходить с превеликой осторожностью». К тяжести, уже лежавшей на плечах Гарри, добавляется новая, и он понятия не имеет, что с этим делать. Дамблдор просил его о доверии, но Гарри погряз в сомнениях и рожденных ими обидах. Это чертовски мешает – но и было чертовски предсказуемо. А значит – Дамблдор знает, что следует делать с Гарри дальше.
Для начала – позволить ему продолжать терзаться сомнениями. Ибо борьба с ними – это часть веры, что очевидно. Возможно, даже большая ее часть.
Годы показывают, что он был, как всегда, прав (а что? да, я тоже засомневалась в нем, когда прочла нетленку Риты в первый раз). Сегодня я безоговорочно верю в него – и благодарна тому, что сумела преодолеть этот путь к вере. И занимаюсь, выходит, тем, что подробно его описываю – попутно в нормальном порядке расставляя нужные акценты в творении Скитер. Интересно все-таки… этой книгой Директор себя наказал – или Гарри с Ритой?..
В полночь на дежурстве у входа в палатку Гарри меняет Гермиона, а подросток отправляется спать, однако все время просыпается в панике от тяжелых снов, в которых Нагайна вылезает то из кольца, то из венка из роз (в который раз аплодирую подсознанию Гарри – так точно связать крестражи между собой и с собой…). Спросонья ему кажется, будто кто-то выкрикивает его имя, ему чудятся голоса и звуки шагов, с которыми он путает хлопанье палаточного брезента на ветру под снегопадом… Или – ему кажется, что ему кажется. Ибо, в конце концов, Рождество на то и Рождество, чтобы случались чудеса.
Всю ночь бродя вокруг стоянки ребят, их ищет вернувшийся Рон.
Ребята повскакивали на ноги. Книга Риты лежит ровно между Гарри и Гермионой – Дамблдор с ее обложки печально улыбается обоим. Прямо в этот миг, я думаю, Финеас спешно транслирует все, о чем говорят детишки, портрету мазохиста-Директора, который, наверное, задается вопросом, не написать ли ему у себя на лбу «Человек». Дамблдор с небес, вероятно, глядит на Гарри с горечью, которая, разумеется, не превращается в обиду – ибо Дамблдор действительно умеет быть снисходительным. Каким Гарри быть никогда не стремился.
Я все понимаю, конечно, перед Гарри лишь часть истории – он пока не располагает ни комментариями Аба, ни пояснениями самого Директора. Но ведь Гермиона знает не больше Гарри – а понимает Дамблдора гораздо лучше него.
Я имею ввиду… конечно, Рита оставила огромное количество возможностей для передергивания, неоднозначностей и догадок. Это ее стиль. Задавать больше неоднозначных вопросов, которые однозначно намекают на («И как умерла загадочная Ариана? Была ли она неумышленной жертвой какого-то Темного обряда? Не перешла ли она дорогу тому, чему не следовало бы, пока двое молодых людей практиковались в достижении цели на пути к славе и власти? Возможно ли, что Ариана Дамблдор стала первой, кто умер «ради общего блага»?), но не дают совершенно никаких ответов – все чистенько, гладенько, клеветы никакой, а неприятный осадок – есть.
Причем сама же Рита, не относящаяся к категории скитернутых особей, очень точно передает и предсказывает реакцию этих, нравственно сдвинутых, обвиняющих Дамблдора во всех грехах (включая и манипуляции в рамках Игры): «Какой удар для тех, кто всегда представлял Дамблдора величайшим заступником маглорожденных! Какими пустыми покажутся все эти речи о правах маглов в свете убийственных новых свидетельств! Каким подлым покажется Альбус Дамблдор, занятый планированием своего восхода к власти в то время, как он должен был оплакивать мать и ухаживать за сестрой! Вне сомнений, те, кто упорны в желании оставить Дамблдора на его рушащемся пьедестале, станут блеять, что он, в конце концов, не стал действовать в соответствии со своими планами, что он, возможно, поменял мнение, пришел в чувства. Тем не менее, правда кажется еще более шокирующей».
По всей видимости, Рита прям свунилась до смерти, когда писала книгу, и сие немудрено, я и сама рыдаю периодически. Потому что… ну… право слово, знакомство с биографией Дамблдора через книгу Риты? Вы серьезно? С какой радостью все поверили каждому ее слову – и Гарри тоже, тот еще скитернутый – несмотря на то, что нам ранее очень ясно показали, как лихо она умеет трактовать факты максимально грязным образом (кстати, с этого Гермиона и начинает спор с Гарри: «…не забудь, Гарри, это творение Риты Скитер»)!
В общем и целом, оскорбление нравственности после прочитанного, если оно и имеет место, можно считать самостоятельно нанесенным любым, кто прочитал, поверил и оскорбился. Гарри – в первую очередь. Ведь надо же было таки дотащиться до осознания элементарного: даже те действия, о которых быстро упомянула Гермиона в своем контраргументе, гораздо важнее, чем слова, которые Дамблдор писал в письме в столь юном возрасте.
Ведь, в конце концов, не так уж сложно догадаться, что то, что он всю последующую жизнь занимался прямо противоположным тому, о чем писал – не только свидетельство, как много он понял с тех пор, но и великая ценность. Ибо «чья проповедь нищеты убедительнее, то есть для богатства убийственнее – отродясь-нищего или богача, отрекшегося»? Я надеюсь, я понятно выражаюсь.
Ему очень легко было бы, если бы он тогда ушел – с Дожем, в путешествие, куда угодно. Я знаю, Аб сказал бы сейчас, что лучше бы он так и сделал.
Но я не уверена, что это было бы лучше. Да, смерть Арианы и программа партии Геллерта, составленная по сути Дамблдором и частично перекочевавшая в идеологию Тома впоследствии, это ужасно. Но дело в том, что никто не знает, как бы там все обернулось, не останься Директор с семьей в то лето. Может быть, он бы встретил Геллерта чуть позже, в другом месте – и когда никакая Ариана не сумела бы спасти Дамблдора от того, чтобы он перешел черту.
Я все равно считаю, что доброе намерение – штука очень важная. Он мог бы уйти, мог бы бросить сестру и брата. Но это все равно, что бросить умирающую мать, потому что тебе больно на нее смотреть, или болеющего мужа, с которым случилось несчастье, и он стал инвалидом – мол, с ним, конечно, было хорошо, но теперь, когда смотреть на него больно, а ухаживать за ним – душно, пора расстаться, да, очевидно, так, спасибо за приятное общее прошлое.
Неправильно это. Неправильно. Нужно оставаться, нужно возвращаться, нужно бороться – какие бы чувства при этом ни рождались, и на какие бы ошибки они потом ни толкали (хотя, конечно, лучше не поддаваться их провокациям, чтобы потом не было мучительно стыдно).
Так вот – первоначальное намерение Дамблдора было добрым. Для меня именно это имеет значение. А дальше уж он сам (понятное дело, хорошему человеку и перед стеной бывает стыдно) и уважаемая общественность, вдаваясь в детали, могут клеймить его на все лады до бесконечности. Мне все равно, для меня он был самым лучшим и им останется, мне плевать, что воображаемая и реальная общественность думают на этот счет. Иначе у меня совсем не останется времени на мысли умных людей.
Когда я переживала насчет близкой родственницы и своего отношения к ее болезни, я регулярно сравнивала себя с 17-летним Дамблдором. И, нормально относясь к тому, что сделал и чувствовал он, проклинала себя за собственные чувства, абсолютно схожие с его – «пойманный в ловушку, теряющий годы!» Мне кажется, это было так в моем стиле – так драматично, так типично… по-гриффиндорски. И абсолютно зря.
Это же все о двойных стандартах – мое нещадное и абсолютно ненужное издевательство над самой собой. Наши с Дамблдором ситуации схожи – с той только разницей, что ни к чему катастрофическому мое поведение не привело, ибо я масштабом не в пример меньше. Но я человек Дамблдора даже в этом и готова была гнобить себя за давно исправленную низость отношения до конца жизни (благо, к Рите не обратилась, чтобы она в красках ее описала). Но, я думаю теперь, если я прощаю Дамблдору то, что он сам себе никогда не простит, я должна простить себе свою собственную – гораздо меньшую ошибку.
Да, это очень больно, между прочим, но мне кажется, это – одна из самых важных вещей в жизни – уметь исправлять свои ошибки и после этого прощать себя за их совершение. Дамблдор, как видим, себя не простил даже после смерти («Ты не можешь презирать меня больше, чем я презираю себя»). В моем случае это стало тем, что усугубило полгода и без того тяжелого внутреннего состояния.
Да, тяжело дается искупление – и я не знаю, о ком из нас двоих я сейчас говорю. Но я прощаю себя. Прощаю, потому что ничего дурного я по итогу не сделала. Напротив, я делала только хорошее – как могла и насколько могла. Я себя прощаю, слава Дамблдору. За последние два дня я приподняла целую гору, что не намеревалась делать на этом этапе Игры, и копнула очень глубоко – в себя. И вновь, как годы назад, спасибо Игре, вытащила.
Подобно тому, как ты погружаешься в лабиринт с желанием найти Кубок, ты ныряешь в Игру за ответами – и всякий раз находишь себя. Оказалось, простить себя едва ли не тяжелее, чем другого – когда я прощала других, так больно не было. И страшно осознавать, что все это – лишь верхушка айсберга и о Дамблдоре, и обо мне, и что еще очень многое предстоит узнать и проработать. Но я рада, что сегодня сумела написать все это – потому что дала себе зарок: если не справлюсь с ситуацией с родственницей, не буду вообще ничего писать. Вообще. Игра останется незаконченной.
Я бы очень хотела, чтобы и Дамблдор себя простил. Он очень строг к себе, но факт остается фактом – даже в жестоком угаре поисков Даров он все равно думал об ответственности (перед маглами, Арианой и братом), от которой так много бегал. Он не был ужасным человеком, Персиваль, растерзавший обидчиков дочери, и Кендра, сильная, волевая и любящая, успели очень многому научить своих детей. И Дамблдор, сколь бы этому ни противился, всегда думал о других.
Да, для Гарри, которого Дамблдор всю дорогу признает лучше себя в некоторых аспектах, все очень просто. Черное – это черное, а белое – это белое. Он не оправдывает Темные Искусства и идеи господства волшебников, он не разбирает поведение людей, все это поддерживающих, с точки зрения психоанализа, а просто сразу дает им по одному месту. Он не усложняет и не пытается быть гуманнее добра, с чего начинал Дамблдор, прежде чем разлететься вдребезги. Он раз и навсегда решил, с кем он, и уже не дергается, не впадает в такую заумь, что в итоге разносит половину Европы за то, что кто-то где-то раздавил мышонка.
Но Гарри родился в другое время и при других обстоятельствах. Дамблдор не знал, что такое война и гонения из-за статуса крови. И не стоило ли Гарри (да и некоторым иным вполне реальным, а не вымышленным людям), прежде чем вопить в адрес Дамблдора миллион обвинений, сначала подумать, что для него все так просто, так элементарно и так, несомненно, правильно именно потому, что этому прямому, как шпала, пути и этому не менее правильному отношению ко всему дерьму, в котором он, Гарри, оказался, научил его тот самый человек, который в свое время отлично понял, как сильно заблуждался, будучи в возрасте Гарри, когда у него не было никого, ни единого наставника или хотя бы равного, кто бы сказал ему, что он ошибается и направил на верный путь?
А вот Гермиона все это прекрасно понимает. И потому следующим, что Гарри слышит от нее, становится:
- Мне жаль, Гарри, но я думаю, что настоящая причина того, что ты так зол – в том, что Дамблдор сам никогда не рассказывал тебе ничего из этого.
И, поскольку она попадает в самое яблочко, реакция Гарри становится соответствующей:
- Может, и так! – громко вопит подросток то, что съедало его с самого сентября. Злость и колоссальных размеров разочарование разрывают его изнутри. – Посмотри, чего он от меня хотел! Рискуй своей жизнью, Гарри! И снова! И снова! И не ожидай, что я все объясню, просто слепо доверяй мне, верь, что я знаю, что делаю, верь, даже если я не верю тебе! Никогда всей правды! Никогда!
Как бы много общего Гарри обнаружил бы со Снейпом, если бы они однажды оказались в запертой комнате с двумя бокалами и ящиком виски…
Голос Гарри срывается. В полной тишине, холоде, пустоте, окружающих их с Гермионой, ему кажется, что они вдвоем – абсолютно одни в целом мире, такие же незначительные, как маленькие насекомые, нечто, не больше муравья под огромным, безразличным, ледяным небом. Дотянуться до цели кажется совершенно невозможным. Никто из них понятия не имеет, что им делать в этом огромном и чертовски сложно сплетенном мире… Столько тупиков, заброшенных вонючих комнат, ложных надежд… и слишком много грязи. Гарри не видит из этого выхода.
- Он любил тебя, – негромко и непривычно мягко произносит Гермиона. – Я знаю, он тебя любил.
Гарри не может злиться дальше. Он полностью истощен.
- Я не знаю, кого он любил, Гермиона, – холодно произносит он, выпрямляясь, – но этим человеком никогда не был я. Это не любовь – бардак, в котором он нас оставил. Он, черт возьми, делился тем, о чем действительно думал, с Геллертом Грин-де-Вальдом гораздо больше, чем делился со мной.
Гарри поднимает палочку Гермионы, которую в пылу бросил в снег, и вновь усаживается у входа в палатку.
- Спасибо за чай. Я закончу дежурство. Ты возвращайся в тепло.
Гермиона колеблется, однако, понимая, что Гарри закрылся для любого продолжения темы, уступает. Юная надежда и опора всей Игры не забывает подхватить с земли книгу Риты, прежде чем скрыться в палатке. Когда она проходит мимо друга, она едва ощутимо проводит ладонью по его волосам. Гарри плотно смеживает веки. Он ненавидит себя в этот миг так сильно, что ему не хочется жить, потому что его проклятая голова с надеждой вертит в себе единственную мысль: может быть, Гермиона права, и Дамблдору действительно не было на него плевать?..
Ну… как бы сказать… мягко говоря, я бы не относилась слишком серьезно ко всему, что успевает исполнить после прочтения главы мозговой трест «Гарри Поттер», и додумывается повернуться и брякнуть язык основного участника оного треста, в первую очередь оскорбив не того, в адрес кого сие было брякнуто, а себя самого. Гарри… как бы сказать… лицо заинтересованное, к тому же, склонное к поспешным выводам, обидчивое, мнительное… ну, и находящееся под колоссальным давлением обстоятельств, следует признать.
И, между прочим, парень неплохо держится – вон, с Гермионой вел себя максимально уважительно. Наверное, не в последнюю очередь потому, что она никогда не дружила с Грин-де-Вальдом и не скрывала от него факт дружбы. Для Гарри ведь сокрытие правды хуже лжи. Можно понять. Но понять вообще все можно – а я бы все-таки попросила Риту, чтобы во время переиздания книги, ежели таковое случится, копию для идиотов покрупнее писала.
Потому что Гарри не прав. Дамблдор выпустил книгу в большей мере именно для него. И, возможно, Снейпа, ибо тоже – любимый. Он поделился с Гарри всем – включая и свой позор. Может быть, стоило, прошу прощения, прочитать всю книгу и лишь после этого делать выводы? Хотя нет, не стоило – Гарри, как известно, выводы по волнующим его темам, методично отделив мух от котлет, делать не способен. Уж лучше пусть парень получает педантично отфильтрованную информацию из уст Гермионы, которая, можно не сомневаться, и книгу прочитает, и выводы сделает, и приблизительно догадается, где правда, а где – скитерахнутость.
Вообще, спустя столько лет я прихожу к мысли, что мне очень нравится поступок Дамблдора – дать рассказать правду о себе не кому-нибудь, а именно Рите, которая принадлежит к той опасной породе людей, которые одно и то же могут подать и как величайшую низость, и как самую невинную шутку.
Мне кажется, в этом – вся его обнаженная совесть, которая зудит до самого конца, самоцензура, если угодно. Но не из страха (по крайней мере, не перед людьми), а потому, что так надо. Потому что только люди, мучительно переживающие свои ошибки, идут в завтрашний день, только люди, осознавшие свою вину, способны строить новый мир.
Раскаявшийся грешник всегда дороже тем, кто сверху, чем среднестатистический праведник, потому что совершил невероятный внутренний скачок, ему пришлось выпрыгивать из ямы. У праведника, условно говоря, был сердечный рейтинг +3, стал +4 – прирост всего единичка. А у грешника, допусти, было -10, а теперь +1. Прирост 11. В 11 раз больше, чем у праведника! Это большая победа.
Может быть, потому Дамблдору и было доверено так много – сыграла роль разница потенциалов между тем, чем он мог бы стать, и тем, кем он в итоге стал. Ведь, следует согласиться, если бы Темным магом стал Дамблдор, в сторонке бы курили, нервно подергиваясь, не только Грин-де-Вальд и Том, но и весь остальной, мать его, мир.
Причем очень важно, что Дамблдор не сам написал о себе, а доверил это Рите – очень важно для его искупления. Неожиданно объяснение нахожу у Пушкина: «Толпа жадно читает записки, исповеди etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы, – иначе. – Писать свои memoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможно физически. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью, – на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать – braver – суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно». Я бы еще добавила, что и суд тех, кого любишь, тоже презирать не получается – уверена, пока Гарри орет и переживает, Дамблдорам – в небе и на портрете – больно и стыдно.
Парадокс в том, что Дамблдор, считающий ложь недопустимой, написал бы гораздо менее полную и откровенную историю своей жизни, чем та, которая получилась у Риты, не гнушающейся клеветать, домысливать и намекать на. Поэтому то, что Директор так себя наказал – это очень хорошая идея. Целиком в его духе. Как подумаешь, каково это – знать, что самое худшее из твоей жизни перескажет скандальная журналистка в своем, так сказать, стиле, и это будут читать миллионы людей… но, наверное, он осознавал, что идиоты обязательно выставят себя идиотами, и беспокоился лишь о реакции самых близких.
Ибо что тут сказать об остальных? Так устроен мир. Известны случаи, например, когда после произнесения Буддой речей огромное количество слушателей покидало его. Он в таких случаях с неизменным спокойствием замечал: «Зерно отделилось от мякины; оставшаяся община, сильная убеждением, учреждена. Хорошо, что эти гордецы удалились». Мне кажется, Дамблдор придерживался того же мнения, и хотелось бы верить, что после пируэта вниз головой с Астрономической башни ему предоставилась возможность обсудить это с Буддой лично.
Что же касается Гарри… весьма символично (и очередная интертекстуальная параллель), что коренной перелом не только в Игре, но и в сознании Гарри случается именно в Рождество. Вот она – «правда», которую парень так хотел узнать – с каким жутким удовольствием, предвкушением он открывал книгу! – но счастья ему это не принесло. Как там он говорил?
«Правда – это прекраснейшая, но одновременно и опаснейшая вещь. А потому к ней надо подходить с превеликой осторожностью». К тяжести, уже лежавшей на плечах Гарри, добавляется новая, и он понятия не имеет, что с этим делать. Дамблдор просил его о доверии, но Гарри погряз в сомнениях и рожденных ими обидах. Это чертовски мешает – но и было чертовски предсказуемо. А значит – Дамблдор знает, что следует делать с Гарри дальше.
Для начала – позволить ему продолжать терзаться сомнениями. Ибо борьба с ними – это часть веры, что очевидно. Возможно, даже большая ее часть.
Годы показывают, что он был, как всегда, прав (а что? да, я тоже засомневалась в нем, когда прочла нетленку Риты в первый раз). Сегодня я безоговорочно верю в него – и благодарна тому, что сумела преодолеть этот путь к вере. И занимаюсь, выходит, тем, что подробно его описываю – попутно в нормальном порядке расставляя нужные акценты в творении Скитер. Интересно все-таки… этой книгой Директор себя наказал – или Гарри с Ритой?..
В полночь на дежурстве у входа в палатку Гарри меняет Гермиона, а подросток отправляется спать, однако все время просыпается в панике от тяжелых снов, в которых Нагайна вылезает то из кольца, то из венка из роз (в который раз аплодирую подсознанию Гарри – так точно связать крестражи между собой и с собой…). Спросонья ему кажется, будто кто-то выкрикивает его имя, ему чудятся голоса и звуки шагов, с которыми он путает хлопанье палаточного брезента на ветру под снегопадом… Или – ему кажется, что ему кажется. Ибо, в конце концов, Рождество на то и Рождество, чтобы случались чудеса.
Всю ночь бродя вокруг стоянки ребят, их ищет вернувшийся Рон.
