БИ-7
Глава 50
Коттедж "Ракушка"
Коттедж "Ракушка"
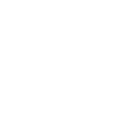
Коттедж «Ракушка» стоит в полном одиночестве на утесе, круто нависшем над морем. Куда бы Гарри ни пошел, он всегда слышит отдаленный шум волн. Кажется, будто дом охраняет огромное невидимое существо, с шумом вдыхающее теплеющий воздух. Дом, сад, утес, море, небо – все очень красиво.
Все последующие три дня Гарри под разными предлогами уходит из переполненного дома, избегает Рона и Гермиону и либо часами напролет сидит на вершине утеса в укромном местечке, спрятавшись за камнями и высокими кустами, глядя на воду и небо, либо разгуливает в одиночестве, спустившись к морю, обдумывая свои дела, в то время как другие, полагаю, обдумывают свои.
После депрессии, вызванной его манией завладеть Дарами и прочими обстоятельствами, наступает промежуточный этап. Решение, которое Гарри принял в ночь смерти Добби, до ужаса пугает его. Он не помнит, чтобы он когда-либо в жизни выбирал бездействие. Гарри полон сомнений, и сомнения раздирают его душу.
«Что если Дамблдор хотел, чтобы мы расшифровали тот символ вовремя, чтобы получить палочку? – спрашивает Рон в моменты, когда друзья все-таки оказываются вместе. – Что если понимание этого символа сделало тебя «достойным» палочки? Гарри, если это в самом деле Старшая палочка, как, черт побери, нам теперь прикончить Сам-Знаешь-Кого?»
Хороший, добрый, напуганный мальчик Рон. Даже сгорая от желания получить Старшую палочку, он все равно признает ее возможным хозяином только Гарри.
Гарри терзается теми же вопросами. Вопросами, на которые у него нет ответов. В ту ночь работали его инстинкты, и теперь Гарри даже не в состоянии нормально и логически объяснить, почему решился позволить Тому надругаться над гробницей – все аргументы той ночи кажутся ему слабее и призрачнее с каждым разом, когда он пытается припомнить их и проанализировать.
Гермиона, вставшая перед железобетонным словом Олливандера о существовании Бузинной палочки, теперь в типично своем стиле настаивает, что это Черный предмет, а способ, каким Том ее достал, абсолютно возмутителен и невозможен для Гарри.
- Ты бы никогда этого не сделал, Гарри, – снова и снова повторяет она. – Ты бы не смог разрушить могилу Дамблдора.
Но перспектива взломать гробнице и увидеть труп Директора, кажется Гарри, пугает его куда меньше, чем мысли о том, что он мог неправильно Директора понять. Поэтому все слова Гермионы, горячо ободрявшей его действия, делают Гарри так же больно, как сомнения Рона. Парень чувствует, что по-прежнему барахтается в темноте. Выбрав свой путь, он никак не может перестать оглядываться назад, перестать подыскивать иные варианты, другие возможности, способ вернуться и переиграть. Иногда на Гарри обрушивается прежняя, всесокрушающая ярость на Дамблдор, который ничего не объяснил нормально прежде, чем умер.
Так подростка учат терпению. Это ключевое слово – наравне с любовью, причем идет оно первым. Ибо возможно терпение без любви, но любовь без терпения невозможна. Равно как и без веры – и Гарри по-прежнему еще только учится любить Дамблдора по-настоящему, что означает не только верить ему, но и доверяться.
Да, подросток блуждает в темноте – той страшной пещеры с черными водами озера и чашей, наполненной зеленым зельем, в которой Дамблдор все свои последние часы учил мальчика одному – смирению. Которое тоже является частью истинной любви. И истинной веры.
Да, Рон, прав, Дамблдор хотел, чтобы Гарри расшифровал тот символ вовремя, чтобы получить палочку – и это произошло, пусть даже ребята этого еще не знают. Да, понимание этого символа сделает Гарри достойным палочки – когда он сможет одолеть свои сомнения, когда будет готов к смирению, и любви, и жертве. Ему все еще нужно время. Он все еще не совсем верно действует.
Очень символично, и идет тем дальше, чем полнее мы припомним, что Дамблдор в жизни Гарри выполняет функции не кого-нибудь, а самого Бога. А к Богу, как известно, нужно прийти. Он никого не спасает и никого не тащит к себе насильно. Люди к нему приходят сами. Но, разумеется, если в них есть пусть даже крохотная часть желания, подобная крошечной доле сожаления в Питере, Бог помогает к нему прийти.
Это трудно. Это больно и это страшно – весь этот путь. На нем очень много заманчивых станций. Кажется – только на минутку зайдешь отдохнуть. Но может не хватить сил выбраться на настоящую дорогу – махнешь рукой да так и останешься. Ведь, в конце концов, никто не обещает, что настоящая дорога существует, никто не поясняет, как она выглядит. До всего нужно доходить самому, не обращая внимания на любопытство (а что на этой станции? а вот на этой?), не подвергая себя напрасным вопросам (зачем искать что-то еще, если этот отель столь комфортен здесь, на распутье? дальше вижу бездорожье – вдруг за ним не столь уютно, вдруг за ним ничего нет? вдруг этот отель – и есть то, что я искал?).
Впрочем, все они нормальным. Я полагаю, сомнения – это часть веры. Возможно, большая ее часть. Грех ли сомнения? Мне так не кажется. Ведь в конце концов важно то, что мы делаем, а не то, о чем мы думаем. Если бы Бог не хотел, чтобы мы думали, он бы отобрал у нас значительную часть мозга. Или, как говаривал Дамблдор, важен лишь наш выбор. Впрочем, то, о чем мы думаем, тоже крайне важно. Ведь как думаем – так и делаем. Каждый человек делает настолько хорошо, насколько может. А то, что он может думать и делать, зависит в том числе и от воспитания его души. Если она воспитана достаточно хорошо – пусть думает и делает лучше, чем может. Ибо потенциал-то велик даден.
Поэтому Гарри может сколько угодно думать, что Гермиона не права, и ради того, чтобы не дать Тому завладеть палочкой, он смог бы пойти на осквернение гробницы. Дамблдора.
Не смог бы. Ума не приложу, как парень может сомневаться в том, что правильно понял намеки и намерения Директора. Разумеется, на самом деле он хотел, чтобы Гарри осквернил гробницу мертвеца и тело покойника. Очевидно, так.
И есть в этом гермионином «Ты бы никогда этого не сделал, Гарри. Ты бы не смог разрушить могилу Дамблдора» что-то… какое-то отдаленное эхо другого разговора – другой женщины-логика с другим мужчиной, которому выпало спасти мир: «Вы мне льстите. Волан-де-Морт обладал силами, которых у меня никогда не было». – «Только потому, что вы… что ж… слишком благородны, чтобы их использовать…»
Я думаю, сомнения Гарри весьма похожи на постоянные сомнения самого Дамблдора – всех лет Игры и, возможно, всей жизни. И на саму жизнь, в которой тем, кому выпали такие роли, то и дело приходится проходить сквозь кризис принадлежности к факультету и преодолевать синдром никудышников, потому что они никогда не ощущают себя храбрецами и – тем более – великими людьми, которые действуют правильно и выбирают верное в условиях, когда ответственность столь велика. Это нормально.
В конце концов, величие и храбрость вовсе не есть бесстрашие. Это способность делать то, что считаешь правильным, даже когда от страха ты не можешь пошевелиться. Все одно к одному.
Чем-то таким хорошим Гарри и Дамблдор когда-то давно привлекли небеса, что они свели их вместе – и это, пожалуй, лучшее, что могло случиться.
Все последующие три дня Гарри под разными предлогами уходит из переполненного дома, избегает Рона и Гермиону и либо часами напролет сидит на вершине утеса в укромном местечке, спрятавшись за камнями и высокими кустами, глядя на воду и небо, либо разгуливает в одиночестве, спустившись к морю, обдумывая свои дела, в то время как другие, полагаю, обдумывают свои.
После депрессии, вызванной его манией завладеть Дарами и прочими обстоятельствами, наступает промежуточный этап. Решение, которое Гарри принял в ночь смерти Добби, до ужаса пугает его. Он не помнит, чтобы он когда-либо в жизни выбирал бездействие. Гарри полон сомнений, и сомнения раздирают его душу.
«Что если Дамблдор хотел, чтобы мы расшифровали тот символ вовремя, чтобы получить палочку? – спрашивает Рон в моменты, когда друзья все-таки оказываются вместе. – Что если понимание этого символа сделало тебя «достойным» палочки? Гарри, если это в самом деле Старшая палочка, как, черт побери, нам теперь прикончить Сам-Знаешь-Кого?»
Хороший, добрый, напуганный мальчик Рон. Даже сгорая от желания получить Старшую палочку, он все равно признает ее возможным хозяином только Гарри.
Гарри терзается теми же вопросами. Вопросами, на которые у него нет ответов. В ту ночь работали его инстинкты, и теперь Гарри даже не в состоянии нормально и логически объяснить, почему решился позволить Тому надругаться над гробницей – все аргументы той ночи кажутся ему слабее и призрачнее с каждым разом, когда он пытается припомнить их и проанализировать.
Гермиона, вставшая перед железобетонным словом Олливандера о существовании Бузинной палочки, теперь в типично своем стиле настаивает, что это Черный предмет, а способ, каким Том ее достал, абсолютно возмутителен и невозможен для Гарри.
- Ты бы никогда этого не сделал, Гарри, – снова и снова повторяет она. – Ты бы не смог разрушить могилу Дамблдора.
Но перспектива взломать гробнице и увидеть труп Директора, кажется Гарри, пугает его куда меньше, чем мысли о том, что он мог неправильно Директора понять. Поэтому все слова Гермионы, горячо ободрявшей его действия, делают Гарри так же больно, как сомнения Рона. Парень чувствует, что по-прежнему барахтается в темноте. Выбрав свой путь, он никак не может перестать оглядываться назад, перестать подыскивать иные варианты, другие возможности, способ вернуться и переиграть. Иногда на Гарри обрушивается прежняя, всесокрушающая ярость на Дамблдор, который ничего не объяснил нормально прежде, чем умер.
Так подростка учат терпению. Это ключевое слово – наравне с любовью, причем идет оно первым. Ибо возможно терпение без любви, но любовь без терпения невозможна. Равно как и без веры – и Гарри по-прежнему еще только учится любить Дамблдора по-настоящему, что означает не только верить ему, но и доверяться.
Да, подросток блуждает в темноте – той страшной пещеры с черными водами озера и чашей, наполненной зеленым зельем, в которой Дамблдор все свои последние часы учил мальчика одному – смирению. Которое тоже является частью истинной любви. И истинной веры.
Да, Рон, прав, Дамблдор хотел, чтобы Гарри расшифровал тот символ вовремя, чтобы получить палочку – и это произошло, пусть даже ребята этого еще не знают. Да, понимание этого символа сделает Гарри достойным палочки – когда он сможет одолеть свои сомнения, когда будет готов к смирению, и любви, и жертве. Ему все еще нужно время. Он все еще не совсем верно действует.
Очень символично, и идет тем дальше, чем полнее мы припомним, что Дамблдор в жизни Гарри выполняет функции не кого-нибудь, а самого Бога. А к Богу, как известно, нужно прийти. Он никого не спасает и никого не тащит к себе насильно. Люди к нему приходят сами. Но, разумеется, если в них есть пусть даже крохотная часть желания, подобная крошечной доле сожаления в Питере, Бог помогает к нему прийти.
Это трудно. Это больно и это страшно – весь этот путь. На нем очень много заманчивых станций. Кажется – только на минутку зайдешь отдохнуть. Но может не хватить сил выбраться на настоящую дорогу – махнешь рукой да так и останешься. Ведь, в конце концов, никто не обещает, что настоящая дорога существует, никто не поясняет, как она выглядит. До всего нужно доходить самому, не обращая внимания на любопытство (а что на этой станции? а вот на этой?), не подвергая себя напрасным вопросам (зачем искать что-то еще, если этот отель столь комфортен здесь, на распутье? дальше вижу бездорожье – вдруг за ним не столь уютно, вдруг за ним ничего нет? вдруг этот отель – и есть то, что я искал?).
Впрочем, все они нормальным. Я полагаю, сомнения – это часть веры. Возможно, большая ее часть. Грех ли сомнения? Мне так не кажется. Ведь в конце концов важно то, что мы делаем, а не то, о чем мы думаем. Если бы Бог не хотел, чтобы мы думали, он бы отобрал у нас значительную часть мозга. Или, как говаривал Дамблдор, важен лишь наш выбор. Впрочем, то, о чем мы думаем, тоже крайне важно. Ведь как думаем – так и делаем. Каждый человек делает настолько хорошо, насколько может. А то, что он может думать и делать, зависит в том числе и от воспитания его души. Если она воспитана достаточно хорошо – пусть думает и делает лучше, чем может. Ибо потенциал-то велик даден.
Поэтому Гарри может сколько угодно думать, что Гермиона не права, и ради того, чтобы не дать Тому завладеть палочкой, он смог бы пойти на осквернение гробницы. Дамблдора.
Не смог бы. Ума не приложу, как парень может сомневаться в том, что правильно понял намеки и намерения Директора. Разумеется, на самом деле он хотел, чтобы Гарри осквернил гробницу мертвеца и тело покойника. Очевидно, так.
И есть в этом гермионином «Ты бы никогда этого не сделал, Гарри. Ты бы не смог разрушить могилу Дамблдора» что-то… какое-то отдаленное эхо другого разговора – другой женщины-логика с другим мужчиной, которому выпало спасти мир: «Вы мне льстите. Волан-де-Морт обладал силами, которых у меня никогда не было». – «Только потому, что вы… что ж… слишком благородны, чтобы их использовать…»
Я думаю, сомнения Гарри весьма похожи на постоянные сомнения самого Дамблдора – всех лет Игры и, возможно, всей жизни. И на саму жизнь, в которой тем, кому выпали такие роли, то и дело приходится проходить сквозь кризис принадлежности к факультету и преодолевать синдром никудышников, потому что они никогда не ощущают себя храбрецами и – тем более – великими людьми, которые действуют правильно и выбирают верное в условиях, когда ответственность столь велика. Это нормально.
В конце концов, величие и храбрость вовсе не есть бесстрашие. Это способность делать то, что считаешь правильным, даже когда от страха ты не можешь пошевелиться. Все одно к одному.
Чем-то таким хорошим Гарри и Дамблдор когда-то давно привлекли небеса, что они свели их вместе – и это, пожалуй, лучшее, что могло случиться.
